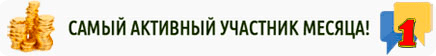Автор -no name.
Вот уже много лет я занимаюсь таким хобби, как кладоискательство, поиск различной старины и свидетельств прошлого. Как-то незаметно для себя занялся исследованием исторической науки почти профессионально. «Почти», потому что по образованию я все-таки не историк. Материала накопилось не на одну диссертацию — начал публиковать статьи, сводить воедино всю информацию, которую удалось накопить за годы. Я и с женой-то познакомился, когда пришел на кафедру Отечественной истории, чтобы оформить научное руководство. Она тоже работает над диссертацией и тоже по нашей «сибирской» тематике. Именно со своими изысканиями я и склонен связывать произошедший со мной случай.
Последний год я как-то отошел от научных и поисковых дел, захлестнула работа, стройка дома. Металлоискатель покрылся слоем пыли, недописанную диссертацию открывал очень редко, а сил хватило всего на пару научных статеек.
В один погожий выходной, в сентябре, удалось вырваться за город на одно, так сказать, культовое место. Когда-то давно была на этом месте богатая ямщицкая деревня Мысовая, аккурат на старом сибирском тракте. Поселились первые жители здесь в незапамятные времена. Место это удивительной красоты и уюта. Сколько раз мне приходилось убеждаться в том, что умели наши прадеды выбирать место для житья.
Жизнь деревеньки кипела на протяжении двух столетий. Помнят эти река и лес, как мчались по Великому тракту кибитки, помнят Радищева и Декабристов. Говорят, сам Антон Павлович Чехов отобедал у местного старосты и за чаркой водки жаловался на обе русские проблемы. Двадцатый век перевернул жизнь старой сибирской деревни. Стал не нужен людям Великий московский тракт, загремела железная дорога, помчались паровозы, полетели «ерапланы». Войны, Революции, исторические вихри довершили свое дело — нет больше на карте старинной деревеньки. В конце 1940-х покинул ее последний житель. Обмелела река, заросли травой огороды, оплыла старая трактовая насыпь. Только ямы от домов, бань и овин уныло смотрят в небо. Бродил я вокруг них и размышлял над всем этим, пытаясь одновременно сличить все окружающее меня с планом деревни, начертанном в Томской губернской чертежне, года 1823 месяца мая 20 дня. Вот где-то здесь некогда была почтовая станция и жил станционный смотритель, наверняка, какой-нибудь Самсон Вырин с дочкой Дуней. А вот возле того куста был когда-то мосток через ручей. Жена моя в это время с подругой суетилась на другом берегу речки, у костра, готовя обед. Присел я отдохнуть на край одной большой западины от дома погреться на солнышке и сам не заметил, как задремал. Сном это состояние назвать трудно, скорее, какое-то забытье — снится мне что-то и в это же время я слышу все, что происходит вокруг. Пастух на противоположном берегу реки хлестнул кнутом и добавил что-то едкое в адрес совхозных коров, где-то в соседней деревне тарахтит мотоцикл, высоко-высоко гудит самолет. Все эти звуки доходят до моего сознания. В один прекрасный момент я смотрю на окружающую меня местность и не узнаю ее. Место то же, но вместо, гладко под газон выщипанной коровами поляны, вокруг меня заросшая бурьяном площадь. Среди этой травы стоят русские печи. Нет ни домов — ничего. Так и стоят под открытым небом. Подхожу к одной из них и откалываю кирпич, беру его в руки, ощущаю тяжесть и холод обожженной глины. На нем клеймо старинного завода и двуглавый орел. Мелькает мысль, что жене такое должно понравиться, начинаю откалывать остальные. Где-то клейма видны четко, где-то приходится соскребать кладочную глину. Складываю кирпичи в штабель. С четкими клеймами в одну сторону, остальные — в другую. Удивления никакого нет. Прикидываю, что хорошо бы подогнать машину и сложить их в багажник. В этот момент ощущаю на себе пристальный взгляд в спину, оборачиваюсь и вижу двух мужичков. Я хорошо разглядел и лица и одежду, но, хоть убейте, не запомнил. Помню только, что одеты были во что-то светлое, возможно, в льняные рубахи или сорочки — у одного на голове была шапчонка. Стоят они двое, сверлят меня взглядами – по-другому сказать не могу. И тут один другому говорит: «Это копатель, я их знаю. Тут один из таких мне ребро сломал и череп ногою раздавил». А второй ему отвечает: «Не трогай его, он про нас историю пишет». И все.
Проснулся я на краю впадины, огляделся — все по-прежнему. Выпас, машина на другом берегу, пастух, загоняющий стадо в соседнюю деревню. Страха не было. Но ощущение полного присутствия не покидает меня до сих пор. Как будто все случилось наяву. Хочу еще сказать, что ни я, ни мои знакомые коллеги-кладоискатели никогда не копали ни кладбищ ни останков.
Автор -no name.
Ездил я как-то летом в Великий Новгород, чтобы что бы покопать по местам боёв. А идти до этого места нужно было 5 километров. Так вот, собрался я, взял прибор с лопатой и пошел. Пришел я на место, место болотистое. Комары кусают. Собираю шмурдяк всякий, за 3 часа - полный мешок набрал, стал выходить, вроде, знаю, куда идти, да в болото проваливаюсь по колена. Ну, думаю, ошибся, надо в другую сторону идти, пошел в обратном направлении, да не тут-то было - опять провалился в болото, куда ни пойду - все проваливаюсь. Все ноги сырые, да и темнеть уже стало. Стало не посебе, а вдруг не выберусь? И громко так сказал, ни к кому не обращаясь: "Ну, если я сам себе помочь не могу, помогите же мне!" И тут я услышал голос за спиной хриплый голос: "Беги и не оглядывайся." Я побежал, но бежал недолго и вышел на дорогу. Правда, лицо было в крови от того, что, пока бежал, ветки хлестали по лицу. Чей голос был за спиной - остается загадкой.
Автор -no name.
Деревенька эта сгорела, по нашим данным, во время весенних палов 1821 года. Причем факт этот хорошо задокументирован. Проанализировав информацию, мы отправились на поиски места бывшей деревни. По нашим данным, она должна была находиться на боковом притоке большой реки, по карте наметили поляну и поехали проверять. До места не добрались километра два, бросили машину и пошли пешком. Перемахнув через овраг и поднявшись на бугор, мы с напарником заметили избу. Самый обычный сруб, ничего примечательного. Пасека или охотничий домик. Таких по Сибири десятки тысяч. Не обратив на избушку никакого внимания, мы прошли мимо к своей цели. Через пару километров вышли на интересующую нас поляну. Судя по признакам, на этом месте действительно находилась старая деревня. Расчехлив приборы начали искать. Находок было не много, и побродив пару часов, мы решили возвращаться обратно. Шли той же дорогой.
Дойдя до оврага, увидели, что на том бугре, где два часа назад стоял сруб, не было ничего. Изба просто исчезла. Видели мы ее оба, совсем рядом, может, метрах в ста проходили мимо по дороге туда. А по дороге обратно ее уже не было. В недоумении мы решили посмотреть это место поближе. Подошли на бугор и обнаружили там западину. Западинами в археологии называется такая яма, оставшаяся от жилища. Скажем так - бывший подпол или погреб, а бруствер западины - это бывшая завалинка. Если место не пахалось и не подвергалось иному воздействию человека, западины сохраняют свои очертания сотнями лет. Так вот, на месте, где совсем недавно видели избу, была классическая "домовая" западина. Мой напарник недолго думая включил металлоискатель и начал искать сигналы. Через полминуты выкопал медную монету времён Екатерины Второй. Я тут же присоединился к нему.
В общем, вокруг этого места мы нашли штук по 20 старых медных монет, самая "молодая" из них датировалась 1798 годом. Т.е однозначно могу сказать, что дома на этом месте не существует с 1798 года. Возможно это была деревня-однодворок, возможно, заимка - сказать трудно. Факт остается фактом. Два часа назад мы видели на этом месте дом, которого нет уже больше 200 лет. Как то это объяснить - не переставляю, напарник тоже. Страха или какой либо паники не было совсем. Просто недоумение.
Автор -no name.
Здравствуйте, коллеги! Вот такая история… Друзья на праздники пригласили поехать с ними на их родину в соседнюю область, где у них дом в небольшой полузаброшенной деревушке. Надо сказать, что бывал я там уже три раза. Два раза просто в гостях, не забывая захватить с собой любимую Терку, а один раз мы с товарищами использовали этот дом как базу для выездов на коп по ближайшему району. Рассказываю это все к тому, чтобы не оставалось сомнений – вокруг дома мной, и не только мной, с приборами было обследовано все до миллиметра и по могу раз. Попадались возле него и монетки, и иконки, и крестики. Находок там было не много, но вечера скрасить сойдет. Ну и в этот раз куда же без прибора.
Приехали, закусили, отдохнули, снова закусили… ну вот, в процессе закусывания я и взял аппарат. Трава по плечи, покошено только вокруг дома метров максимум на 20. Вот по этим метрам я и пошёл гулять. Пуговка с якорем попалась, монетка уже не помню какая. Мусора много, отключил чермет, хожу на цветняке. Наслаждаюсь природой. Сигнал! 46, но довольно сомнительно, с подхрипыванием, как ржавая чернина. Зашёл с другого бока, то же самое. Ладно, думаю, копну. Копалось трудно, обломки красного кирпича сильно мешали. Думал уж бросить выкапывать эту хренотень. Но тут заметил в ямке екатерининский пятачок. Такие монетки всегда приятны! Взял его, встал, провожу снова катушкой. Опять 46! Встаю на колени и начинаю вынимать грунт руками. Тут же еще один пятак! А с ним обломок от горшка! Сердце забилось… Смотрю в ямку, с там еще несколько пятаков рядком лежат. И такие же обломки. Думаю – твою мать, мне ж никто не поверит! Подзываю сына, играющего неподалеку и говорю ему, мол иди в дом, зови всех, отец клад нашёл! Он тоже посмотрел в ямку, сказал слово, которое я, как отец, ну совсем не ожидал услышат от семилетнего ребенка и убежал. Я закурил дрожащими руками. Через пару минут он возвращается и заявляет, что ему никто не верит и не хочет идти. Тут уже я произнес то же самое слово! Иди, говорю, снова в дом и без мамы, а также тёти и дяди не возвращался. Прошло еще несколько минут… Смотрю, идут! Жена моя, друзья, и дети все. И ржут!!! Думают я шучу! Но, подойдя к яме, каждый… каждый!!! Из них сказал это самое слово, которое я уже слышал от ребенка. Короче, дети полезли доставать монеты, а я пошёл звонить друзьям- копателям и хвалиться, что нашел свой первый клад. А потом было много коньяка! Утром болела голова и подташнивало. Наверное, от перенесённого вчера стресса… Короче говоря, прибор взял в руки только опять к вечеру. Но, чтобы лучше отсекать мусор, поставил вместо стандартной ДД-шки высокочастотный эллипс. Опять прогулка вокруг дома, опять пара монет… Сигнал! 46! Четко и со всех сторон! Копаю… Снова мешают обломки красного кирпича. Докопался до какой-то деревяшки. Пригляделся – береста. Притягиваю руку, поднимаю ее, а под ней…
ПЯТАКИ!
От моего радостного крика с ближайшей пасеки слетела пара роев пчел. Все заинтересованные лица были в этот раз рядом, но к я кладу у уже никого не подпустил, решил доставать сам, не повредив горшок. Но, к сожалению, он начал рассыпаться в руках. Ими, монеты я и выгребал. А потом было опять много коньяка и обсуждение того, что снаряд в одну воронку всеже падает. Третий день. Опять к вечеру пошёл прогуляться с прибором. Опять отличный монетный сигнал, опять копаю, опять береста, опять под ней ПЯТАКИ. Отличие было только в том, что лежали они не в горшке, а в каком-то берестяном или лубяном коробе. Поразила реакция ребенка. Если первым двум кладам он радовался и удивляюсь, то увидев третий, он только хмыкнул и пошёл дальше играть в мяч. Привык, блин!!! На четвёртый день я к прибору решил даже не притрагиваться! Итак, подводя итоги… За три дня – три клада. Все не далее 10 метров от дома, но с разных сторон. Всего 2420 монет. Подавляющее большинство – елизаветинские и екатерининский пятаки, 69 кольцевиков, штук 50 екатерининских и павловских копеек и двушек. Сохран разный. Больше всего монет приятного собрана было, как ни странно, в третьем кладе, в коробе. Там почти не было слипшихся. И еще… Я вполне себе материалист, но… Анализируя с супругой и друзьями – хозяевами дома предшествующие всему этому события, мы пришли к выводу, что все не просто так само по себе случилось. Очень много несколько дней подряд до этого происходило странного и довольно мистического. Не могу обо всем написать просто поверьте. Начиная с такой казалось бы ерунды, как примета о том, что если птичка какнет- к деньгам. Так в день приезда, еще утром, я получил на свою машину три огромные Загрузка...блямбы, как от аистов, не меньше. Может это и смешно само по себе, но в комплексе с остальными вещами… Да и тот факт, что по этим самым местам я и мои товарищи ходили-кружили миллион раз и ничего… А в этот раз такое ощущение, что эти клады нам кто-то просто отдал. Или разрешил забрать…
Автор -no name.
Копаем с Юрой(имя изменено) по разные стороны дороги ( верх выбит давно, сначала шурфик на штык бьешь, потом фонишь). Время около 6 вечера, солнце за спиной, но еще не село.Вытащил наконечник прикольный, поднимаюсь и делаю шаг к другу, похвастаться и покурить заодно. Расстояние между нами метров двадцать, краем глаза ловлю движение слева, поворачиваю голову и челюсть отваливается. Перпендикулярно моему движению, абсолютно бесшумно движется фигура в переливающемся камуфляже. Рост 2 метра, шлем на голове как конус в плечи уходит. Скорость как чел бысто идет. Движется примерно посередине между мной и Юрком. Испуга нет, удивление необычайное. Почти полная аналогия фильма "Хищник". Кричу "ЮРА! ТЕНЬ! Провожаю ее взглядом, она исчезает как раз напротив нас. Смотрю , Юрок сидит на песке, глаза из орбит выходят.
Автор -no name.
В 1983 году в деревне Корсуково,при распашке поля,трактористом Петром Труфановым был выпахан бронзовый котёл,наполненный скифо-сибирскими украшениями,являвшими собой величайшее искусство тех времён.Три дня вся деревня ходила смотреть на диковинных мифических животных,определяя на зуб металл из которого они были выполнены..В конце концов кто то под шумок стащил несколько понравившихся ему бронзулеток и зверушек,что то успел подарить сам радушный хозяин своей нежданной находки.В конце концов сойдясь на том что изделия не золотые,а скорее как рандолевые,все успокоились и более не задумывались уже о них...Нашлись и добрые люди,сообщили куда следует...Из райцентра приехал УАзик,полный сердитых и шибко больших начальников....Долго всех гоняли по деревне ,обещая всяческих неприятностей и последствий всем поголовно,в конце концов,составили акт какой то,опись оставшегося,и увезли в центр...Петру Труфанову досталось особливо...Затаскали по разным кабинетам,сделали ему множество выговоров и нареканий,одним словом за полгода человек изменился до неузнаваемости.И может быть этого было достаточно,для того чтобы подорвать резко пошатнувшееся здоровье человека,в течении года угасающего на глазах и умершего почти сразу же ...Ходили правда некие небылицы о обязательном заклятии,наложенном на эту находку,но скорее всего это был просто вымысел...хотя как знать...Я сам когда то сталкивался с вещами необъяснимыми......
В 2002 году,мы ,обладая довольно смутным представлением о кладоискательстве,вооружившись одним прибором на двоих,отправились без оглядки выкапывать ещё один котёл со скифскими сокровищами.А как же иначе?Раз был один,значит и другой лежит,нас дожидается...Сейчас приедем в деревеньку,спросим у тракториста где это поле....и выкопаем ещё один котёл...Или на худой конец ,доберём то что осталось при распашке тогда....
Как оказалось,Петра Труфанова уже не было в живых,и никто не мог пояснить нам ,где находится это поле....А вокруг полей,видимо не видимо,кажется проще иголку в стоге сена найти....В первую поездку прожили под Корсуково почти неделю.Всё время шёл мерзостный крупосёрский дождик.Находок...кот наплакал......Обследовали пару соседних полей,но кроме тракторных запчастей и водочных безкозырок,ничего не нашли.Похвастать нечем.....Хотя....Товарищ мой уж очень долго копал в центе обруча от какой то бочки,не подозревая о том ,пока не зацепил его случайно...Домой вернулись пустые,но с некоторым заделом на будущее....Перед самым нашим отъездом,местный дедок рассказал нам о Цикурах,деревеньки сгинувшей в водовороте революции...В конце концов Цикурский летник и стал нашей базой,и неким трамплином,к дальнейшим поискам в этом районе Корсуковских скифосибирских котлов...
Большая поляна,растянувшаяся вдоль речки Жуя на три версты,принесла нам немало находок.Первый в свой жизни сибирский десяток,я нашёл именно здесь.Потом были ещё,и ещё...но тот первый, нежданный,был самым запоминающимся моментом в моей кладоискательской жизни..Антон нашёл золотой пятирублёвик 1874 года,запаянный в амулет и знак лесного сторожа.А потом,когда пришла моя очередь обнимать лопату... Вылетело бронзовое копьё,в идеальном сохране,отполировано как будто только вчера сделано,в изумрудной глубокой патине.Одним словом произведение.... Всё это было продано нами по незнанию, на скорую руку,подразумевающую естественную некую скидку,дабы как можно быстрее приобрести второй металлодетектор,что и было вскоре осуществлено...К тому времени уже открылось представительство Минелаба,и с тех пор,вся наша область копает только такими проверенными и оправдывающими наши надежды приборами..
Неудивительно,что мы копали это место почти всё лето...не забывая выезжать в Корсуковские поля,благо найденное нами копьё,оставляло нам некоторые шансы на успех...В конце концов,мы нашли в округе несколько подобных полей,возможно нашли и то место Труфановское,т.к. на одном из полей нами было найдено кроме имперских монет и бурятских пуговиц,ещё одно копьё,уступающее первому,бронзового грифона,и бронзовую дырчатую пластину-пряжку с изображением птиц,нам тогда дюже непонятную, и определённую нами как конский топот...так называлась у нас вся найденная в те времена конская цветная сбруя и прочие причиндалы.. Скифского золота мы так и не нашли...но с тех пор, интерес к этой теме,на почве постоянных споров о принадлежности и предназначению этих вещей,сподвигнул нас на поиски нужной литературы,чтобы иметь хотя бы смутное собственное представление и не выглядеть профаном перед товарищами,ведь нет ничего хуже чем незнание!!!За это время нами и моими знакомыми было найдено около 30 подобных вещиц...Что то, что повторялось, было отдано в краеведческий музей,но не безвозмездно...Взамен нам предоставили книги по археологии нашей области...Это было наше некое условие ,на что музейные работники охотно согласились...А мне приятно,заходя в музей видеть наши дары...Правда последние год два,что то я их не видел...говорят в запасниках лежат....Из найденного нами,все вещи подразделялись на три типа...Животные которые живут на земле,птицы и подземные драконы,крокодилы,и змеи...Однотипность их и повторяемость была очевидна..Некоторые изделия,как пряжка с грифоном,были выполнены в наилучшем виде.Мельчайшие детали были искусно прорисованы,и отличались высоким качествам литья.Другие же напротив,были чрезвычайно расплывчаты в орнаменте,с упущением каких то подробностей и деталей,а нам к тому моменту уже было с чем сравнить.Со временем мы поняли что изображения на них,из за множества отливок и копий потеряли свою выразительность и чёткость.Вообще же,подводя некий итог и как указано в наших книгах,все вещи выполненные в зверином стиле на территории Прибайкалья,условно разделяют на скифосибирский и хунносарматский.Персонажи эти подразделяются на три группы,равные трём зонам мирозданья.Это небесной(птицы),земной(копытные и хищники),и подземный(драконы и змеи).Скифский звериный стиль оказал существенное влияние на культуру Хунну,а те в свою очередь оказали огромное влияние на племена,населявшие территорию Прибайкалья...вот почему мы часто находим как оказывается древние бурятские амулеты и пряжки,очень похожие на сибироскифские и хуннские предметы,являющимися на самом деле только лишь подражанием тех древних культур...и неким продолжением,этого анимационного стиля.
Земля ревниво оберегает свои древние тайны от пронырливых кладоискателей, и отдаёт ему лишь то ,чего он заслуживает неустанным поиском и долгим целенаправленным трудом...
Автор -no name.
Дело было в прошлом году. Я с друзьями поехал на в Тульскую область. Место я не знал, меня взяли за компанию. Обещали, что без чешуек не вернемся. Приехали мы на одно поле. Находки не заставили себя ждать. Медные монеты и крестики, целые и обломки. Но вот чешуек - ни одной.
Прошло 3 часа. Переезд на другое место. И снова мы углубились в поиски. И снова медные монеты, но меньше, чем на первом поле.
Прошло еще 3 часа. Снова ни одной чешуйки.
Переезд на последнее место. Мы снова углубляемся в поиски. И тут пошел дождь! Причем не грибной, а настоящий ливень. Друзья кто в машину, кто в перелесок, и давай одевать на свои приборы чехлы, чтобы не замочить "мозги". Только у меня тогда был водонепроницаемый Garrett AT Pro, поэтому я углубляюсь в поле.
Дождь все сильнее. Друзья прячутся в перелеске. На поле остаюсь только я.
Дождь еще сильнее. Примерно через 25-30 минут у меня сигнал. Достаточно четкий. Копаю. Фольга. Провожу еще раз катушкой - сигнал на месте. Дождь все усиливается. Копаю. Пуля. Ну, думаю - все! Ничего нет. Разворачиваюсь и хочу идти к машине.
Но тут внутренний голос мне говорит - "Подожди! Там есть что-то еще..."
Дождь еще сильнее. Я надвигаю кепку сильнее, чтобы вода не попадала в глаза. Провожу катушкой - нет сигналов. Провожу еще раз, но в 10 см от места, где была пуля и снова сигнал. Собираюсь копать, но черенок лопаты настолько сырой, что лопата выскальзывает из руки и падает на землю.
Я поднимаю глаза к небу. Дождь как из ведра. Вода льется по лицу. И я кричу в небо: "Ты же понимаешь, что я не уйду без находки?!"
Поднимаю лопату и снова копаю. И вот из кома земли выпрыгивает чешуйка Михаила Федоровича. Я поднимаю ее мокрыми пальцами, и стараясь не уронить, кладу в карман. И тут дождь заканчивается. Как будто его просто выключили тумблером. Выглядывает Солнце и появляется Радуга.
Я отпускаю лопату и металлодетектор на землю, и как сумашедший начинаю приплясывать. Друзья смотрят на меня из перелеска и не понимают в чем дело. Подбегают ко мне. Я сырой до нитки, но довольный. Достаю из кармана чешуйку и показываю им. Меня поздравляют и, новым с зарядом энтузиазма, разбегаются по полю, чтобы продолжить поиски.
После этого, я пробил это место еще более тщательно в радиусе 10 метров. В общей сложности, было найдено 4 чешуйки Михаила Федоровича. Видимо, это был остаток какого клада. И по заведенной традиции, я раздал каждому человеку, с которыми ездил, по одной чешуйке, так сказать, на удачу. ;)
Я часто вспоминаю эту историю, и каждый раз понимаю, что если бы не внутренний голос - чешуйки так и остались бы тогда лежать в земле.
Автор -no name.
Было мне лет 16. Каждое лето я ездил к бабушке, которая жила в небольшой деревеньке в Псковской области. Деревня была маленькой, на две улицы, как помню, но таких вот детей каменных джунглей, как я, приезжало достаточно. Мы были подростками и по ночам дома нам, конечно, не сиделось. Местные развлечения нам быстро надоели, поэтому наше внимание привлекла дискотека в соседней деревне. Деревня называлась Веселово и находилась от нашей в часе ходьбы. Вот так мы и начали почти каждый вечер туда наведываться. А что? Деревня большая, молодёжи много и девчонки симпатичные.
Как-то раз, возвращался я домой один, так как задержался и все мои друзья давно уже ушли. Был конец августа, над головой сияла луна, радостно стрекотали цикады и настроение, соответственно, было отличное. Часть моего пути проходила мимо уничтоженной в войну деревни. Остались лишь обгоревшие остовы, поросшие бурьяном, да пара разрушенных домов. Я шел неспеша, насвистывая какую-то незамысловатую песенку, как вдруг услышал плач. Я остановился и прислушался. Да, я отчетливо услышал прерывистые женские всхлипы, которые доносились со стороны одного более-менее целого дома. У меня не возникло чувства страха, скорее беспокойство. Потоптавшись немного на месте, я направился к дому, с трудом продираясь через заросли. Плач становится всё громче и теперь к нему добавилось какое-то невнятное бормотание. Я остановился и, собравшись с духом, крикнул:
— Эй, помощь нужна?!
Всё смолкло. Я затаил дыхание, вслушиваясь в звенящую тишину. Но продлилась она недолго. Послышался прерывистый вдох и всхлип, полный тоски и отчаянья. Мне стало даже стыдно, человеку помощь, наверное, нужна, а я в прятки тут играю! Полный решимости, я преодолел последние, разделяющие нас метры, и остановился. На осыпавшемся крыльце сидела женщина. Её лица я не видел, так как она низко склонила голову, обхватив колени руками. Но внешний вид мне показался, мягко говоря, странным. Босая, в длинной белой рубахе, с растрепанной косой. В такой рубахе моя бабка ложилась спать, их лет 30 уже как не носят. Женщина плакала, громко всхлипывая, и повторяла, как заведенная:
— Он не пришел! Он не пришел! Он не пришел!
Я неловко топтался на месте, не зная, что предпринять. Наконец, решившись, я ее окликнул:
— Девушка, что-то случилось? Я могу вам помочь?
Она на мгновенье замерла и, замотав головой, заплакала ещё сильнее.
— Не пришел, не пришел, он не пришел, он не пришел....
В этот момент мне стало не по себе. Может, сумасшедшая? Я осторожно коснулся её плеча. Она была холодная, как лёд, неестественно холодная. Незнакомка вздрогнула и засмеялась, сухим истерическим смехом. Я отдернул руку. И в этот момент она подняла голову. Я был парнем далеко не робкого десятка, но то, что я увидел, заставило меня закричать. У неё не было трети головы!
Разнесена вдребезги, будто выстрелом. Из зияющей дыры сочилась кровь и какая-то белая жидкость, правый глаз запал вовнутрь. Она смотрела куда-то сквозь меня пустым взглядом и повторяла одну и ту же фразу. Я стоял, выпучив глаза, и просто смотрел. Женщина глубоко вздохнула и, поднявшись, направилась вглубь двора. Она дошла до погреба и, взявшись за дверь, будто растворилась. Я развернулся и рванул, не разбирая дороги, прямиком домой. И всю дорогу боялся услышать за спиной отчаянное и горькое «Он не пришел!».
Автор -no name.
А расскажу-ка я вам одну занимательную историю, что произошла с нами в этом году. Собрались, значит, как-то раз мы с товарищами за кладом. Ну как за кладом - покопать мы собрались - поискать сокровища, ну или то, что просто находится в земле нашей. Вообще металлопоиском мы увлеклись не так давно, года два назад, но за это время уже сколотили дружную команду единомышленников, обросли снаряжением, отметились некоторыми приятными находками и в целом могли уже считаться знатоками этого дела.
Традиционно выезжали мы на коп втроём: я, автор сего письма; Серёга - наш бессменный водитель; и Санька - опытный путешественник и просто положительный человек. Долго ли коротко, но приехали мы на место поиска, преодолев городские пробки и загородные многокилометровые расстояния. В тот день ехать открывать новые горизонты не было ни времени, ни возможности и поэтому рванули мы на проверенное поле, которое нет-нет, да радовало своими находками. Клад, если объективно, найти мы не рассчитывали там, но вот свою долю исторических напоминаний, выраженных в заветных кругляшках, получить всё-таки желали. Место было очень хорошо нам известно, так что мы даже почти не расстроились, когда, подъезжая к этому полю, увидели машину. Ну кого мы могли тут встретить в это время?
Весной. Вдали от города. Ну разумеется коллег, к гадалке не ходи. Точно.
Размахивая металлоискателями, в "нашем" поле бродила пара человек, периодически присаживаясь к земле, видимо с целью обнаружения очередной находки. "Ну что, поедем куда-нибудь дальше или присоединимся к этим копателям?" - поинтересовался я у друзей. "Дальше ехать времени нет, но и толкаться в поле не хотелось бы.." - задумался Серёга: "Поэтому предлагаю обойти поле и начать его копать с того конца, к тому же там мы по-хорошему и не искали никогда: с этого угла всегда начинали, так что к тому краю уже уставшие доходили". На том и порешили. Сергей поставил машину в тени деревьев и мы, негромко переговариваясь, выдвинулись в указанном направлении. Коллеги нас, естественно, заметили, но, не подав вида, продолжали свой поиск. Не сразу, постепенно, но наши поисковые сумочки стали пополняться рядовыми находками: монетками, конинками, пуговками, элементами старых украшений, гвоздиками и тому подобными предметами старины. Ценного ничего не было, но одно то, что в твоих руках находится то, что когда-то потеряли люди, жившие за много лет до тебя, вызывало одновременно и радость, и интерес, и уважение. Когда солнце поднялось совсем высоко, мы были примерно на середине поля и, что естественно, встретились с утренними гостями. "Здорово, мужики, как находки" - улыбаясь и щурясь от весеннего солнца, спросил их Саня.
Мужики, почему-то, в ответ промолчали и лишь недобро глянули на нас из-под бровей. Мы, конечно, удивились такому не компанейскому поведению, но решили беседу не продолжать и просто разошлись по своим направлениям. "Вот гады" - толкнув вывернутый комок земли в образовавшуюся ямку, процедил сквозь зубы Серёга: "Вы только посмотрите, да у них ямки-то вовсе не зарыты". И действительно, если присмотреться, то можно было увидеть, что поле за этими мрачными кладоискателями представляло собой решето из не закопанных ям. "Слышь, мужики, вы что свинячите то?" - уже с угрожающими нотками в голосе, крикнул Санька в след удаляющимся фигурам: "Из-за вас, свиней, честным копарям жизни нет". "Слышь, а ты чё такой дерзкий?" - прошипел один из "коллег" и демонстративно полез за пазуху, вытащив от туда пистолет.
Травматический, пневматический или настоящий - тогда вникать было некогда и мы, хотя и были в численном перевесе, но, глядя на оружие, несомненно осеклись. "Вам надо, вы и закапывайте" - скалясь щербатой улыбкой, сказал второй из горе-копателей, так же показав пистолет, висящий у него на поясе. Ухмыльнувшись, они повернулись и продолжили свой неправильный поиск. А мы так и остались стоять, откровенно не зная что делать и находясь в полной растерянности. За свою кладоискательскую жизнь мы, конечно, не раз встречались с одной из главных проблем современного металлопоиска - не закопанными после себя ямками, - и даже теми, кто их не закапывает. Обычно простой беседы вполне хватало, чтобы найти общий язык с ними, не прибегая к физическому воздействию, но здесь, сейчас мы просто не понимали происходящее. "Ничего себе, сходили покопать называется" - развёл руками Сергей: "И что это было?" "Скотство это было.." - ответил я ему. "Да уж, это точно не люди, и даже не животные" - почесал затылок Санёк. Настроение, такое хорошее и беззаботное с утра, было разом испорчено. С такими искателями связываться было себе дороже, но и оставить их поступок без внимания мы тоже не могли. "Колёса проколоть им" - начал заводиться Саня. "Ну да, ты ж понятия не имеешь кто они такие. Машина у них не из дешёвых, металлоискатели тоже продвинутые, ну а про пистоли и манеру общаться и говорить не приходится" - задумчиво произнёс Сергей. "Но и оставлять так тоже нельзя, не так ли?" - подытожил я.
День набирал обороты: солнце светило уже по-летнему, наполняя воздух теплотой и свежестью; птицы радостно щебетали, перекликаясь между собой; жужжали первые насекомые, очнувшиеся после зимней спячки. По полю шагали два искателя кладов. Уверенные в себе, наглые, не признающие никого вокруг себя. "Михалыч, ты задрал уже со своими монетами. Какого чёрта мы за ними гоняемся, с них же никакой выгоды. Ну ты посмотри, одни какалики в улове. Поехали лучше на охоту, с мясом будем, да и на продажу набъём с избытком" - наседал на товарища один из копателей. "Да ты погоди. Я тебе говорю можно реально подняться на этих монетосах. Вот найти бы кладуху хорошую, да сбыть бы её с наваром нехилым, вот это бы дело было..." - парировал второй. "Ага, ещё бы смертные под ногами не мешались" - ухмыльнулся первый искатель. И два друга яростно засмеялись, заглушив своим хохотом шум леса и пение птиц. О закапывании ямок после себя эти люди даже не не помышляли. А зачем? Ведь они и так снизошли до того, что приседают к земле, чтобы взять находку. А тут ещё и закапывать за собой. Вот уж нет. Вот уж извольте. Так и жили, так и искали. Сегодня они успешно отразили наезд группы копателей, послав их куда подальше на их просьбу вести себя по-человечески и по этой причине находились в весьма приподнятом настроении. "Слышь, Колян, а если они нам колёса проколют, а? Что тогда? Мы ж отсюда не выберемся" - усомнился вдруг Михалыч. "Да нет, не проколют, видал как они шуганулись, когда мы стволы светанули?" - улыбнулся коллега. Так, пересмеиваясь, они подошли к машине. И то что они увидели, заставило их остановиться и, хлопая глазами, некоторое время стоять молча. Ну а потом полилась музыка.
Музыка русского крепкого словца, искусно переплетающегося и витиевато крутящегося. Перед ними был аккуратно вырыт ров шириной метра полтора и глубиной около того же. При чём по всему периметру узкой дорожки, обрамлённой по краям наступающим лесом. Ну то есть ни пройти, ни проехать. При этом вся выбранная земля была аккуратно сложена в одну большую кучу, чтобы, так сказать, обратно закапывать было сподручней.
"Михалыч, ты хоть их запомнил? Какая машина у них была? Номер? Цвет?
Что-нибудь..." - охал кладоискатель. "На кто их знает, они же до нас не доехали остановились" -сокрушался его коллега. Хочешь не хочешь, а закапывать ров им пришлось. Поняли они или нет что-то в той ситуации - вопрос второй, но вот то, что заставили мы их спуститься с небес на землю, это точно.
Автор -no name.
В 1983 году в деревне Корсуково,при распашке поля,трактористом Петром Труфановым был выпахан бронзовый котёл,наполненный скифо-сибирскими украшениями,являвшими собой величайшее искусство тех времён.Три дня вся деревня ходила смотреть на диковинных мифических животных,определяя на зуб металл из которого они были выполнены..В конце концов кто то под шумок стащил несколько понравившихся ему бронзулеток и зверушек,что то успел подарить сам радушный хозяин своей нежданной находки.В конце концов сойдясь на том что изделия не золотые,а скорее как рандолевые,все успокоились и более не задумывались уже о них...Нашлись и добрые люди,сообщили куда следует...Из райцентра приехал УАзик,полный сердитых и шибко больших начальников....Долго всех гоняли по деревне ,обещая всяческих неприятностей и последствий всем поголовно,в конце концов,составили акт какой то,опись оставшегося,и увезли в центр...Петру Труфанову досталось особливо...Затаскали по разным кабинетам,сделали ему множество выговоров и нареканий,одним словом за полгода человек изменился до неузнаваемости.И может быть этого было достаточно,для того чтобы подорвать резко пошатнувшееся здоровье человека,в течении года угасающего на глазах и умершего почти сразу же ...Ходили правда некие небылицы о обязательном заклятии,наложенном на эту находку,но скорее всего это был просто вымысел...хотя как знать...Я сам когда то сталкивался с вещами необъяснимыми......
В 2002 году,мы ,обладая довольно смутным представлением о кладоискательстве,вооружившись одним прибором на двоих,отправились без оглядки выкапывать ещё один котёл со скифскими сокровищами.А как же иначе?Раз был один,значит и другой лежит,нас дожидается...Сейчас приедем в деревеньку,спросим у тракториста где это поле....и выкопаем ещё один котёл...Или на худой конец ,доберём то что осталось при распашке тогда....
Как оказалось,Петра Труфанова уже не было в живых,и никто не мог пояснить нам ,где находится это поле....А вокруг полей,видимо не видимо,кажется проще иголку в стоге сена найти....В первую поездку прожили под Корсуково почти неделю.Всё время шёл мерзостный крупосёрский дождик.Находок...кот наплакал......Обследовали пару соседних полей,но кроме тракторных запчастей и водочных безкозырок,ничего не нашли.Похвастать нечем.....Хотя....Товарищ мой уж очень долго копал в центе обруча от какой то бочки,не подозревая о том ,пока не зацепил его случайно...Домой вернулись пустые,но с некоторым заделом на будущее....Перед самым нашим отъездом,местный дедок рассказал нам о Цикурах,деревеньки сгинувшей в водовороте революции...В конце концов Цикурский летник и стал нашей базой,и неким трамплином,к дальнейшим поискам в этом районе Корсуковских скифосибирских котлов...
Большая поляна,растянувшаяся вдоль речки Жуя на три версты,принесла нам немало находок.Первый в свой жизни сибирский десяток,я нашёл именно здесь.Потом были ещё,и ещё...но тот первый, нежданный,был самым запоминающимся моментом в моей кладоискательской жизни..Антон нашёл золотой пятирублёвик 1874 года,запаянный в амулет и знак лесного сторожа.А потом,когда пришла моя очередь обнимать лопату... Вылетело бронзовое копьё,в идеальном сохране,отполировано как будто только вчера сделано,в изумрудной глубокой патине.Одним словом произведение.... Всё это было продано нами по незнанию, на скорую руку,подразумевающую естественную некую скидку,дабы как можно быстрее приобрести второй металлодетектор,что и было вскоре осуществлено...К тому времени уже открылось представительство Минелаба,и с тех пор,вся наша область копает только такими проверенными и оправдывающими наши надежды приборами..
Неудивительно,что мы копали это место почти всё лето...не забывая выезжать в Корсуковские поля,благо найденное нами копьё,оставляло нам некоторые шансы на успех...В конце концов,мы нашли в округе несколько подобных полей,возможно нашли и то место Труфановское,т.к. на одном из полей нами было найдено кроме имперских монет и бурятских пуговиц,ещё одно копьё,уступающее первому,бронзового грифона,и бронзовую дырчатую пластину-пряжку с изображением птиц,нам тогда дюже непонятную, и определённую нами как конский топот...так называлась у нас вся найденная в те времена конская цветная сбруя и прочие причиндалы.. Скифского золота мы так и не нашли...но с тех пор, интерес к этой теме,на почве постоянных споров о принадлежности и предназначению этих вещей,сподвигнул нас на поиски нужной литературы,чтобы иметь хотя бы смутное собственное представление и не выглядеть профаном перед товарищами,ведь нет ничего хуже чем незнание!!!За это время нами и моими знакомыми было найдено около 30 подобных вещиц...Что то, что повторялось, было отдано в краеведческий музей,но не безвозмездно...Взамен нам предоставили книги по археологии нашей области...Это было наше некое условие ,на что музейные работники охотно согласились...А мне приятно,заходя в музей видеть наши дары...Правда последние год два,что то я их не видел...говорят в запасниках лежат....Из найденного нами,все вещи подразделялись на три типа...Животные которые живут на земле,птицы и подземные драконы,крокодилы,и змеи...Однотипность их и повторяемость была очевидна..Некоторые изделия,как пряжка с грифоном,были выполнены в наилучшем виде.Мельчайшие детали были искусно прорисованы,и отличались высоким качествам литья.Другие же напротив,были чрезвычайно расплывчаты в орнаменте,с упущением каких то подробностей и деталей,а нам к тому моменту уже было с чем сравнить.Со временем мы поняли что изображения на них,из за множества отливок и копий потеряли свою выразительность и чёткость.Вообще же,подводя некий итог и как указано в наших книгах,все вещи выполненные в зверином стиле на территории Прибайкалья,условно разделяют на скифосибирский и хунносарматский.Персонажи эти подразделяются на три группы,равные трём зонам мирозданья.Это небесной(птицы),земной(копытные и хищники),и подземный(драконы и змеи).Скифский звериный стиль оказал существенное влияние на культуру Хунну,а те в свою очередь оказали огромное влияние на племена,населявшие территорию Прибайкалья...вот почему мы часто находим как оказывается древние бурятские амулеты и пряжки,очень похожие на сибироскифские и хуннские предметы,являющимися на самом деле только лишь подражанием тех древних культур...и неким продолжением,этого анимационного стиля.
Земля ревниво оберегает свои древние тайны от пронырливых кладоискателей, и отдаёт ему лишь то ,чего он заслуживает неустанным поиском и долгим целенаправленным трудом...
Автор -no name.
Историю эту слышал когда то давным давно,живя ещё в Баргузинских краях......Меня,маленького 12 летнего ребёнка изредка отец брал с собой на охоту,благо геологическая партия,где он работал, располагалась в маленькой деревеньке,находящейся практически в глухой тайге...И вот в такие времена,когда осенние листья кружили свой предсмертный вальс с соблазнительным ветерком,когда птицы уже становились на крыло,и улетали в свой долгий небесный святой полёт,когда осеннее небо,горящее кровавым закатом.... словно приговорённая к смерти звезда, вот в одну из таких тихих и доверчивых ночей....довелось мне услышать у сокровенного костра охотников,у настоящей костровой охотничьей нодьи, одну историю......скорее рассказанную тогда только лишь мне, как единственному тогда маленькому мальчику, находящемуся среди взрослых..... с большими,тогда ещё честными и добрыми, и оттого сентиментальными по детски глазами, раскрытыми настежь,готовыми до последней слезинки поверить любому рассказу из уст бывалых охотников, вызывающих почтенное благоговение в моём маленьком доверчивом и отзывчивом сердце.... .Услышав тогда эту историю,я долго потом ещё смотрел в страхе на костёр,прижавшись вплотную к своему отцу,и взяв его за руку....Он улыбнулся мне ...и я наконец успокоился, заглянув в его весёлые и лукавые татарские глаза,зная что отныне и вовеки... я в надёжных руках.....Помню ещё тогда, как отец дал мне подержать в руках своё ружьё,без патронов,....пообещав мне, что когда я вырасту,что оно станет моим ...и помню я ещё этот горько сладкий запах пороха той двустволки, приятный холод металла,что впитались тогда в меня, и стоят и по сей день в моих чувствах....мне остаётся лишь поведать эту историю вам, немного переделанную и изменённую,своими словами, от своего имени из своих детских воспоминаний...которые впрочем не в силах передать всех красок этого рассказа,да и рассказчик то собственно из меня никудышный,ну да ладно....
Лес кончился.впереди уже маячил желанный просвет,а за ним,низкая гряда Лысой горы...Нам предстояло карабкаться по россыпи звонких обломков осыпавшихся камней и лавировать меж увесистых валунов...Брошенная нами машина ещё какое то время назад маячила одинокой белой точкой среди зелёной равнины,на самом краю бушующего болотного разнотравья.Там,с той стороны перевала,где шумит полноводная река Иреть,не позволяющая подобраться в плотную к находившейся когда то здесь в старину казачьей крепостнице, и запиравшей в своё время Мунгальские ворота.Монгольские феодалы пользовались этой мунгальской дорогой,громя бурятские улусы ,угоняя скот и женщин,пока русские казаки не построили на пути этого перевоза добротный острог,заброшенный через сотню лет, к тому времени уже как не обязательный....Вот туда то мы и спешили,пройдя уже большую часть из двадцати километров нашего пути.
С самого утра что то не заладилось....и вышли мы уже ближе к обеду.За пол дня отмахали порядочно,и на ночлег остановились уже затемно.Всё место подыскивали по удобнее....Нам повезло.Очень кстати набрели мы на здоровенную кучу сухого валежника,недалеко от речки.Словно кто то заботливо её приготовил для нас,чтобы мы не мыкались по ночи среди деревьев,в поисках дровишек....Кучу так и запалили,с краю,подвесив пару котелков,расселись полукругом,разулись,чтобы дать отдохнуть уставшим и уже гудящим нашим ногам.Шевелим дрова,рты слюной кипят....Ждём ужин.Наконец всё приготовилось.Мы довольно быстро перекусили дошираком и консервами,и теперь прихлёбывая горячий живительный чай,уже отдохнувшие и сытые,заметно повеселели,зная что завтра не более чем через час,два пройденного пути, будем находиться уже на крепостнице....Как это обычно водится говорили о былых находках,о завтрашнем дне и его перспективах,ну и конечно о девчонках....куда же без них на ночь глядя то....Огонь успел уже охватить весь немалый ворох валежника,и в глубине его начинало заунывно попискивать,трещать и как бы смутно корчиться.
Чай пили по сибирски, так называемо длинный.Разливали по своим кружкам с высоты,отчего то считалось что так вкусней,кроме того,струя на лету за это время немного остывала.Невнятно бормотала река Иретка,шумел в верхах лес,где то разболтанно и одиноко ухнул толи филин,толи сова....Куда доставал свет от костра,там всё вроде бы было спокойно,а вот дальше....дальше было нехорошо.Как будто что то двигалось в кустах,пряталось в темноте,и подсматривало за нами из ночного мрака своими глазищами...нехорошее место...Ну конечно по большому счёту нам было наплевать что там...,нас то вона сколько,у Ваньки пистоль травматический,да у кажного по лопате,сами знаете,в умелых руках что это значит...Сидим ржём на весь лес,спать никому не даём....
Только мы просмеялись от очередной весёлой истории,рассказанной нам дядей Васей о невинных его похождениях по знаменитым нархозовским общагам,считавшимися тогда кузницей красивых девчонок, о стервозной комендантше,что разлучала влюблённых....и уже приготовились слушать продолжение.....как вдруг ветки в костре зашевелились,распались....взвился сноп искр...и чёрный ужас,словно удар молнии обрушился на нас.....Среди костра,в огне,медленно приподнялся и сел,охваченный пламенем человек.Его потряхивало и корчило,обугленные руки совершали жуткие движения,напоминавшие наподобие тех,что выделывают шаманы в своих таинственных ритуальных танцах......Дядя Вася завизжал предсмертным визгом недорезанного поросёнка,Иван, ещё минуту назад ухмылявшийся чему то ,и поплёвывая в костерок,сейчас уже молча тыкал своим пальцем в сторону костра и не мог вымолвить не слова...я кажется вообще не смел шелохнуться,словно под неким гипнозом,не моргая,затаившись неприметно, и чуть дыша.....Всё дальнейшее не было похожим даже на бегство...Кто то из нас полз прочь,извиваясь как змея,кто то удирал на четвереньках...Макс сиганул в реку,метался по ней,спотыкаясь о валуны и утробно ухая надрывно кричал зовя свою маму....Я одним из первых откатился кубарем в сторону,вскочил,и босиком,с невероятной ловкостью и скоростью понёсся в таёжную глухомань.Слепой от увиденного,подгоняемый ужасом и животным страхом,я долго бежал ещё,лишь чудом минуя деревья,пока не врезался своим лбом,в один из них и не упал в беспамятстве, уже ничего не помнив...
Это уже потом,когда к машине пришёл последний участник нашей экспедиции,так позорно разбежавшейся в ту ночь словно дезертиры с поля боя,когда последним притопал наш дядя Вася,сильно на нас разгневанный тем,что мы его не подождали,и бросили одиноко в холодных водах Ирети,и уж тем более потом,когда мы показали это место местным деревенским охотникам,а заодно забрали свои брошенные вещи,нам всё объяснили...Задрал медведь человека,завалил кучей хвороста,чтобы немного протух...а тут мы,кладоискатели,подожгли ворох,вот его и начало корчить.....Случай дурацкий.То есть тот самый,который можно назвать полной и совершеннейшей чушью...Однако с тех пор,на ту крепостницу мы более не ногой....Прошу считать всё это вымыслом.
Общайся на форуме и получи денежный приз! Подробнее |
Читальный зал.
-
pioneer

- Старожил

- Сообщений: 777
- Стаж: 6 лет 6 месяцев
- Имя: Лёха
- Местонахождение: Свияжское воеводство
- Благодарил (а): 291 раз
- Поблагодарили: 1118 раз
Не рассказ, конечно, но статья познавательная. Наконец-то и сам узнал, т.к. есть такая Колькина приблудная))) 
Монеты с запилами на гурте.
1.Намотка ниток. Удобно наматывать нитки, получается красиво ии удобно!
Плюсы - верся самая незамудренная, потому как просто и удобно наматывать, кто-то даже видел как наматывали на подобную монетку....
Минусы - дешевле было использовать какую нибудь деревянную щепку, или кусок скрученной бумаги, а на данную монетку можно было не один клубок купить. Делать насечки трудоемко, да и хватило бы и меньшее количество насечек.
2.Ложили на глаза покойникам. Так как данные монеты нужны для оплаты перевозчику душы через реку в тот мир, ну или тупо закрывали глаза монетами, тем у кого они не закрывались...у.у.у, страшно?:shok:
Плюсы - Находят парами и они подходят по размеру, а насечки, для того что бы монеты не воровали, и не могли сбагрить...
Минусы - есть мнение, что обряд хоронение с монетами запрещала церковь (но тут же опять и плюс, так - ведь так как сделать напилы, то это вроде как уже ине монета, а значит можно не борясь с ними хоронить... Зачем делать так много аккуратных запилов, ведь можно было просто нанести на одну из сторон «крест» и проще и понятнее, что это обозначает.
Подвариант: кидали в могилу, доводы, имхо те же...
3.Делали амулет на счастье. Монеты делали с такими насечками с наклонами по кругу, делая таким образом амулет «Ярилко». Легенда, цитата: «Ярило (Яр) – божество пробуждающейся природы, покровитель растительного мира. Весной справляли « ярилки», которые заканчивались похоронами Ярилы. Где Ярило пройдёт – будет большой урожай, на кого посмотрит – у того в сердце разгорается любовь. Ярило отождествляли с Солнцем. Во многих песнях, присказках люди обращаются к этому божеству с просьбами о тёплом лете и хорошем урожае. 4 июня – Ярилин день.» Вот ссылка: «Славянское язычество» grani.agni-age.net/articles4/slav.htm
Плюсы:монету использовали уже трудно принимаемую платежем, т.е. не жалко, аккуратные насечками с наклонами по кругу, обозначающие как бы солнцеворот, и находили такие монеты зачастую в огороде или поле, а хоронили в кладах либо как магический предмет, либо как амулет для будущего урожая.
Минусы:вопрос - почему монеты практически одного диаметра, и зачастую насечки на аверсе? Совпадение?
4.Использовали их как крайние монеты для крепления и связки стопки монет. Их приставляли по краям стопки монет и связывали веревкой, делая таким образом колбаски для ношения денег.
Плюсы: Удобносвязывать, так как есть куча насечек, монеты имеют больший диаметр, что позволяет «закрыть» практически любые монеты.
Минусы: Очень трудоёмко, не нужно делать такие аккуратные напилы, да и носить так не удобно, так как есть шанс что монеты все рассыпятся, удобнее в мешочке.
5.Делали их для игры или в орлянку. Подпилив таким образом, монете изменяли центр тяжести и она падала нужной стороной.
Плюсы: Возможно и падала нужной стороной
Минусы:такой дефект монеты очень легко станет заметен другим игрокам, зачем делать столько запилов, да еще и так аккуратно.
Подвариант: Их использовали «битками» для игры в "Чик" или "Кон", и делали их для различия, но глупо делать для различия одинаковым способом, не видно индивидуальности, а просматривается система.
6.Медь использовали для лечения. То есть с монеты спиливалась медь и исполдьзовалась в лечебных целях приемом внутрь для заживления переломов.
Плюсы:медь - способствует лечению переломов, а насечка дневная доза, а количество насечек - количество доз приема.
Минус:Для чего делать круговые аккуратные насечки, и почему нет половины нанесенных насечек (ведь могло понадобится и 5 и 10 доз)или пропивали курс до заканчивания на монете места? И почему потом хранили, а не использовали повторно, выпиливая «не выпилинное»….
7. Это были так называемые "разбойничьи деньги" Т.е. таким образом помечались монеты для расплаты в определенном кругу.
Плюсы: таким образом сразу видна принадлежность к «касте».
Минусы: слишком малые объемы данных монет, (а как мы знаем разбойники не бедные люди) и стертость номиналов ,что говорит о неплатежеспособности данных монет, ну и конечно трудоемкость не оправдывается…да и находили в кладахи огородах «простых смертных»
Подвариант: «черные метки» - вручались в определенных случаях, доводы – те же…ну и смыл, не пираты же...
8. Эти штуки использовалось для резки. Т.е. таким образом их использовали для резки/выделки/отметки на коже или тесте.
Плюсы:можно подлезть в неудобные уголки…
Минусы:сложно, и не удобно, слишком мелкая штука, проще ножом….
9. Это линейка. Использовалась для подручного «деления на равные части».
Плюсы: Всегда при себе…
Минусы:Не нужно делать столько запилов, да и проще кусочком веревки или веточки.
10. Для укладки монеты по углам при строительстве дома
Плюсы: насечки делали для лучшей сцепки
Минусы:дорого и насечки не надо делать так аккуратно и по краям, а логично телать по всей площади.
11.Цель опиливания - кража металла.
Плюсы: Кража металла
Минусы– овчинка выделки не стоит, проще делать на монете «выкус» и всегда можно обосновать браком монетного двора….:)
12.Использовали как грузили или гирьки
Плюсы: удобно привязывать..
Минусы: Трудоемко и бесполезно, минимальный вес…
13.Монеты с запилами использовались для чистки изделий из валяной шерсти
Плюсы:Хорошо удаляет мусор с войлока, и возможно поэтому изображение на монетах стерто…был проведен эксперимент – работает!
Минусы: Не слишком удобно, нет необходимости делать насечки по краям, легче сделать их по всей плоскости…
14.А вот версия. Бабка рассказывала)
После бани "пациент" усаживался перед "дохтуром" спиной к нему ( ) на низкую скамеечку , голова наклонялаь вперёд. На полу расстилалась газета и волосы вычёсывали движениями от себя двемя-тремя гребнями. От крупного до мелкого. Практически все взрослые особи при этом выбирались. Но самие сташное не вша, а гнида (детёныши, я о них уже говорил) Тври сии представляют из себя мелкие и очень липкие белесые комочки, налепленные на волос - их не убрать никаким гребнем!. Убирают их так - захватывают мелким гребешком маленькую пряь волос. накидывют на монету с пропилами и прижимая большим пальцем прядку в монете протягивют. Гнидусы остаются на острой кромке зазубрины. Постепенно по мере налипания тварей на грани монету проворачивают в пальцах пока не "используют " всё ребро. Теперь самое интересное - почему монет много... После того. как "инструмент" (ведь это уже не монета, однако ) так сказать использовали его бросали в банку с керосином и брали другую... На одного человека уходило от трёх до 10 монет, в зависимости от частоты насечек, диаметра, ну и естественно запущенности болезни.
Подобный инструментарий имелся в каждом доме - брать у соседей или дать кому считалось дурным тоном."
Выдвинута масса гипотез, версий, предположений от употребления монет с запилами для наматывания ниток в клубки- до применения монет с насечками для массажа стопы или даже для внутреннего лечебного употребления меди (опилок- только почему в основной своей массе опилки брали с орловой стороны- не объясняется).Ещё одна забавная версия- применение монет с насечками для вычёсывания гнид- кстати, долго обсуждалась. А если серьёзно, то преподнесена была довольно грамотно с медицинскими терминами и даже фотографиями- леденящими кровь. Но, вот только один из главных аргументов- рассказ некоей бабушки, если не ошибаюсь.
Нет смысла приводить все гипотезы, они как снежный ком поглотили правильную версию.
Ответ прост как правда: Аверсы медных монет в России помечали насечками (запилами) для игры в « орлянку». Основное назначение таких насечек- выделить орловую ( гербовую) сторону, чтобы не было каких -либо не однозначных толкований игроками- какой стороной выпала монета орлом или решкой. Да, и всем участникам игры и «болельщикам» лучше было видно, кто выигрывает, а кто проигрывает.
Один из аргументов противников гипотезы- нельзя де мол играть мечеными монетами.
Да, играли и не мечеными. Но мечеными удобней! Ошибка в том, что некоторые коллеги имеют представление об « орлянке» только из Википедии и думают, что игра сводилась к одному простому правилу- подбросил монету- угадал орёл или решка, забирай монету и иди дальше. Это только один из вариантов игры. Но большей частью играющих было много. Они собирались группами и играли в «орлянку» уж никак не за один подброшенный пятак . Такая монета выполняла в этот момент служебную роль фишки.
Серьёзные игроки ( продвинутые, как сейчас бы сказали) для подбрасывания использовали монету с помеченным орлом.. А деньги на которые играли ставили на общий кон. Кстати, Ткаченко в своём исследовании высказывает версию связывающую запилы с игрой в « орлянку». Только, к сожалению, вывод делает ошибочный, что такие монеты использовали только жулики. Вывод основан на том, что запиленная сторона легче и больше вероятность выпадения монеты аверсом вверх. При всём моём уважении, к научным работникам- не могу согласиться. Во- первых, насечки ,иногда, очень малы и практически вряд ли влияют на исход игры. Во- вторых, играющие, я думаю, могли сами выбирать орла или решку. И наконец, в-третьих, настоящие жулики- шулера использовали для обмана двухорловики. Известны такие без запилов и с запилами с обеих сторон. Кстати это один из важных аргументов в подтверждение гипотезы о монетах с насечками как фишках для игры в «орлянку». Двухорловики использовали шулера при игре в орлянку. Двухорловики с насечками (с обеих) сторон тоже. Если будет найден двухорловик с насечками только на одной стороне – я сильно удивлюсь.
Монеты с запилами на гурте.
1.Намотка ниток. Удобно наматывать нитки, получается красиво ии удобно!
Плюсы - верся самая незамудренная, потому как просто и удобно наматывать, кто-то даже видел как наматывали на подобную монетку....
Минусы - дешевле было использовать какую нибудь деревянную щепку, или кусок скрученной бумаги, а на данную монетку можно было не один клубок купить. Делать насечки трудоемко, да и хватило бы и меньшее количество насечек.
2.Ложили на глаза покойникам. Так как данные монеты нужны для оплаты перевозчику душы через реку в тот мир, ну или тупо закрывали глаза монетами, тем у кого они не закрывались...у.у.у, страшно?:shok:
Плюсы - Находят парами и они подходят по размеру, а насечки, для того что бы монеты не воровали, и не могли сбагрить...
Минусы - есть мнение, что обряд хоронение с монетами запрещала церковь (но тут же опять и плюс, так - ведь так как сделать напилы, то это вроде как уже ине монета, а значит можно не борясь с ними хоронить... Зачем делать так много аккуратных запилов, ведь можно было просто нанести на одну из сторон «крест» и проще и понятнее, что это обозначает.
Подвариант: кидали в могилу, доводы, имхо те же...
3.Делали амулет на счастье. Монеты делали с такими насечками с наклонами по кругу, делая таким образом амулет «Ярилко». Легенда, цитата: «Ярило (Яр) – божество пробуждающейся природы, покровитель растительного мира. Весной справляли « ярилки», которые заканчивались похоронами Ярилы. Где Ярило пройдёт – будет большой урожай, на кого посмотрит – у того в сердце разгорается любовь. Ярило отождествляли с Солнцем. Во многих песнях, присказках люди обращаются к этому божеству с просьбами о тёплом лете и хорошем урожае. 4 июня – Ярилин день.» Вот ссылка: «Славянское язычество» grani.agni-age.net/articles4/slav.htm
Плюсы:монету использовали уже трудно принимаемую платежем, т.е. не жалко, аккуратные насечками с наклонами по кругу, обозначающие как бы солнцеворот, и находили такие монеты зачастую в огороде или поле, а хоронили в кладах либо как магический предмет, либо как амулет для будущего урожая.
Минусы:вопрос - почему монеты практически одного диаметра, и зачастую насечки на аверсе? Совпадение?
4.Использовали их как крайние монеты для крепления и связки стопки монет. Их приставляли по краям стопки монет и связывали веревкой, делая таким образом колбаски для ношения денег.
Плюсы: Удобносвязывать, так как есть куча насечек, монеты имеют больший диаметр, что позволяет «закрыть» практически любые монеты.
Минусы: Очень трудоёмко, не нужно делать такие аккуратные напилы, да и носить так не удобно, так как есть шанс что монеты все рассыпятся, удобнее в мешочке.
5.Делали их для игры или в орлянку. Подпилив таким образом, монете изменяли центр тяжести и она падала нужной стороной.
Плюсы: Возможно и падала нужной стороной
Минусы:такой дефект монеты очень легко станет заметен другим игрокам, зачем делать столько запилов, да еще и так аккуратно.
Подвариант: Их использовали «битками» для игры в "Чик" или "Кон", и делали их для различия, но глупо делать для различия одинаковым способом, не видно индивидуальности, а просматривается система.
6.Медь использовали для лечения. То есть с монеты спиливалась медь и исполдьзовалась в лечебных целях приемом внутрь для заживления переломов.
Плюсы:медь - способствует лечению переломов, а насечка дневная доза, а количество насечек - количество доз приема.
Минус:Для чего делать круговые аккуратные насечки, и почему нет половины нанесенных насечек (ведь могло понадобится и 5 и 10 доз)или пропивали курс до заканчивания на монете места? И почему потом хранили, а не использовали повторно, выпиливая «не выпилинное»….
7. Это были так называемые "разбойничьи деньги" Т.е. таким образом помечались монеты для расплаты в определенном кругу.
Плюсы: таким образом сразу видна принадлежность к «касте».
Минусы: слишком малые объемы данных монет, (а как мы знаем разбойники не бедные люди) и стертость номиналов ,что говорит о неплатежеспособности данных монет, ну и конечно трудоемкость не оправдывается…да и находили в кладахи огородах «простых смертных»
Подвариант: «черные метки» - вручались в определенных случаях, доводы – те же…ну и смыл, не пираты же...
8. Эти штуки использовалось для резки. Т.е. таким образом их использовали для резки/выделки/отметки на коже или тесте.
Плюсы:можно подлезть в неудобные уголки…
Минусы:сложно, и не удобно, слишком мелкая штука, проще ножом….
9. Это линейка. Использовалась для подручного «деления на равные части».
Плюсы: Всегда при себе…
Минусы:Не нужно делать столько запилов, да и проще кусочком веревки или веточки.
10. Для укладки монеты по углам при строительстве дома
Плюсы: насечки делали для лучшей сцепки
Минусы:дорого и насечки не надо делать так аккуратно и по краям, а логично телать по всей площади.
11.Цель опиливания - кража металла.
Плюсы: Кража металла
Минусы– овчинка выделки не стоит, проще делать на монете «выкус» и всегда можно обосновать браком монетного двора….:)
12.Использовали как грузили или гирьки
Плюсы: удобно привязывать..
Минусы: Трудоемко и бесполезно, минимальный вес…
13.Монеты с запилами использовались для чистки изделий из валяной шерсти
Плюсы:Хорошо удаляет мусор с войлока, и возможно поэтому изображение на монетах стерто…был проведен эксперимент – работает!
Минусы: Не слишком удобно, нет необходимости делать насечки по краям, легче сделать их по всей плоскости…
14.А вот версия. Бабка рассказывала)
После бани "пациент" усаживался перед "дохтуром" спиной к нему ( ) на низкую скамеечку , голова наклонялаь вперёд. На полу расстилалась газета и волосы вычёсывали движениями от себя двемя-тремя гребнями. От крупного до мелкого. Практически все взрослые особи при этом выбирались. Но самие сташное не вша, а гнида (детёныши, я о них уже говорил) Тври сии представляют из себя мелкие и очень липкие белесые комочки, налепленные на волос - их не убрать никаким гребнем!. Убирают их так - захватывают мелким гребешком маленькую пряь волос. накидывют на монету с пропилами и прижимая большим пальцем прядку в монете протягивют. Гнидусы остаются на острой кромке зазубрины. Постепенно по мере налипания тварей на грани монету проворачивают в пальцах пока не "используют " всё ребро. Теперь самое интересное - почему монет много... После того. как "инструмент" (ведь это уже не монета, однако ) так сказать использовали его бросали в банку с керосином и брали другую... На одного человека уходило от трёх до 10 монет, в зависимости от частоты насечек, диаметра, ну и естественно запущенности болезни.
Подобный инструментарий имелся в каждом доме - брать у соседей или дать кому считалось дурным тоном."
Выдвинута масса гипотез, версий, предположений от употребления монет с запилами для наматывания ниток в клубки- до применения монет с насечками для массажа стопы или даже для внутреннего лечебного употребления меди (опилок- только почему в основной своей массе опилки брали с орловой стороны- не объясняется).Ещё одна забавная версия- применение монет с насечками для вычёсывания гнид- кстати, долго обсуждалась. А если серьёзно, то преподнесена была довольно грамотно с медицинскими терминами и даже фотографиями- леденящими кровь. Но, вот только один из главных аргументов- рассказ некоей бабушки, если не ошибаюсь.
Нет смысла приводить все гипотезы, они как снежный ком поглотили правильную версию.
Ответ прост как правда: Аверсы медных монет в России помечали насечками (запилами) для игры в « орлянку». Основное назначение таких насечек- выделить орловую ( гербовую) сторону, чтобы не было каких -либо не однозначных толкований игроками- какой стороной выпала монета орлом или решкой. Да, и всем участникам игры и «болельщикам» лучше было видно, кто выигрывает, а кто проигрывает.
Один из аргументов противников гипотезы- нельзя де мол играть мечеными монетами.
Да, играли и не мечеными. Но мечеными удобней! Ошибка в том, что некоторые коллеги имеют представление об « орлянке» только из Википедии и думают, что игра сводилась к одному простому правилу- подбросил монету- угадал орёл или решка, забирай монету и иди дальше. Это только один из вариантов игры. Но большей частью играющих было много. Они собирались группами и играли в «орлянку» уж никак не за один подброшенный пятак . Такая монета выполняла в этот момент служебную роль фишки.
Серьёзные игроки ( продвинутые, как сейчас бы сказали) для подбрасывания использовали монету с помеченным орлом.. А деньги на которые играли ставили на общий кон. Кстати, Ткаченко в своём исследовании высказывает версию связывающую запилы с игрой в « орлянку». Только, к сожалению, вывод делает ошибочный, что такие монеты использовали только жулики. Вывод основан на том, что запиленная сторона легче и больше вероятность выпадения монеты аверсом вверх. При всём моём уважении, к научным работникам- не могу согласиться. Во- первых, насечки ,иногда, очень малы и практически вряд ли влияют на исход игры. Во- вторых, играющие, я думаю, могли сами выбирать орла или решку. И наконец, в-третьих, настоящие жулики- шулера использовали для обмана двухорловики. Известны такие без запилов и с запилами с обеих сторон. Кстати это один из важных аргументов в подтверждение гипотезы о монетах с насечками как фишках для игры в «орлянку». Двухорловики использовали шулера при игре в орлянку. Двухорловики с насечками (с обеих) сторон тоже. Если будет найден двухорловик с насечками только на одной стороне – я сильно удивлюсь.
-
pioneer

- Старожил

- Сообщений: 777
- Стаж: 6 лет 6 месяцев
- Имя: Лёха
- Местонахождение: Свияжское воеводство
- Благодарил (а): 291 раз
- Поблагодарили: 1118 раз
Автор -no name.
Копаем с Юрой(имя изменено) по разные стороны дороги ( верх выбит давно, сначала шурфик на штык бьешь, потом фонишь). Время около 6 вечера, солнце за спиной, но еще не село.Вытащил наконечник прикольный, поднимаюсь и делаю шаг к другу, похвастаться и покурить заодно. Расстояние между нами метров двадцать, краем глаза ловлю движение слева, поворачиваю голову и челюсть отваливается. Перпендикулярно моему движению, абсолютно бесшумно движется фигура в переливающемся камуфляже. Рост 2 метра, шлем на голове как конус в плечи уходит. Скорость как чел бысто идет. Движется примерно посередине между мной и Юрком. Испуга нет, удивление необычайное. Почти полная аналогия фильма "Хищник". Кричу "ЮРА! ТЕНЬ! Провожаю ее взглядом, она исчезает как раз напротив нас. Смотрю , Юрок сидит на песке, глаза из орбит выходят.
Автор -no name.
Дело было в прошлом году на Невском Пятачке на Зольнике. Мы там вахтой стояли. Вечером дело было. Отощёл от полатки по нужде. Стою, курю. На зольник смотрю. И вдруг вижу боковым зрением что-то по зольнику несётся с большой скоростью, метрах в 100 от меня. Я пригляделся-человек, но однородный, тёмно-серого цвета. И бежит километров 30 в час. Ногами не перебирая. И ног как таковых не видно. Однородная масса. Добежал до края Зольника и ап....испарился. Я к ребятам подхожу, рассказываю, а один говорит типа...ну и что, это фантом был. И спокойно так своими делами занимается. Я говорю-понятно и иду спать, хотя так и не уснул.
Автор -no name.
Произошел случай, мы с мужем были, мягко говоря, в шоке...
В общем, дело было так: решили мы съездить с ним (а также моей подругой и ее мужем) в одно "прикормленное" местечко, развеяться а заодно блиндажик до ковырять. Ехали почти на шару - т.к. погода подкачала, снег-ветер, холод... Но, вопреки всему, улыбнулась удача - ганс-штык, касочка, и по мелочи. Останков не было - если не считать пары осколков берцовой. В общем, погрузили все, я за рулем, и "поплыли" к дому. Так вот. По прибытии все распаковали, штык - в керосинчик, и баюшки. Как вдруг ночью слышу грохот какой-то и трехэтажный мат. Мы все вскакиваем, что случилось? Смотрю - а муж в ванной с разбитой головой (ссадина серьезная) на карачках на полу. "Начинаем разбираться. И вот тут он (муж) и говорит - "Сплю я, и тут словно просыпаюсь. Ну то есть думаю что проснулся. Смотрю - парень какой-то меня за рукав теребит Мол, вставай, чел, где тут мои вещички-то? Которые ты прихватил". - Муж в непонятках, а тот его торопит - "Давай вставай". Ну муж и встал, а тот его торопит. А штык у нас в ванной лежал в пластиковой бутыли в керосине. Ну муж когда понял что от него хотят, пошел в ванну. И навернулся ногой о приступку. Шмякнулся головой, шишку хорошую заработал.
Вот такие пироги. До сих пор говорит что не верил, что спит, как наяву все было.
Вот не знаю, что и думать, и что со штыком теперь делать
Автор -no name.
Расскажу небольшую байку...Подняли мы с камрадом двух гансов в районе Апраги.На двоих у них было две мыльницы,два перочинных ножа,два презерватива и всякий хлам.Остатки униформы патроны и мелочёвка. Гансов прикопали. Потом сдали их останки. Сделали всё как надо. Я уже и забыл про это всё. А недавно я крутил в руках мыльницу которую забрал у немца и обнаружил бурые следы на ней. Пришёл к мнению что это кровь запеклась.Так вот... Собрался с ребятами на коп недавно. Лёг спать. Вставать рано надо, в 6-30. Сплю и сниться мне сон,явный такой сон...Что я проснулся, встал,встретил товарищей и мы копать приехали. Они в блине ковыряются а я вылез отдохнуть. Сел. И тут ко мне солдат подходит в немецкой форме и говорит:
- Димон, ты у меня зачем мыльницу забрал? Она моя,отдай мне её пожалуйста, мне умываться нечем...
Проснулся я естественно.Страшно как то стало...Так уснуть и не смог.Прозвенел будильник и я пошёл собираться...
Автор -no name.
Приходил тут ко мне камрад один, ну я хвастался хабарком за сезон порадовал, повыкладывал всё, показал, сложил(дело вечером было)лёг спать... Утром встал всё вроде в поряде. Что-то снилось, но непомню! Стал кровать застилать а тут ганс пряга (алюминька) возле самой подушки лежит, ну думаю забыл вчера положить, беру её и тут вспоминается мой сон!
Значит поле слегка холмистое я лежу, вокруг тоже много людей лежат и почему-то я знаю что это солдаты немцы, вроде тоже как с ними... и тут разрыв мины метров в ста впереди от меня БабаХ! потом чуть правее БабаХ! страшно!( а про себя думаю разрывы небольшие но фонтан грязи высоко взлетает значит лёгкий русский миномёт работает... ) дальше... лежим я поворачиваю голову назад а там чуть позади ещё группа солдат залегла.. и снова разрыв прям в центре тех кто позади меня лежит! ну думаю парней осколками посекло... еще разрыв и мина угодила прям в солдата его чуть выше травы подбросило....а потом как то всё непонятно все под какие-то заросли бегут, и я под дерево спрятался и набилось людей там тьма!-----
Ну вот как бы и весь сон....думаю вот это да-а-а ... а пряга что забыл... была поднята с нем. солдата которого разнесло осколками до неузнаваемости(череп разбит.. кости вперемешку) вот теперь и думаю... бывают совпадения же .
Автор -no name.
А у меня случай был! С камрадом блин копали, и собираемся домой. Ну все вещи взяли и идем вдруг слышу кто то лопатой ширк,ширк я за кусты зашел и вижу человек на раскопе ковыряется (странно как то не вглубь а как то как землю разгребает) я к нему подхожу ну, и разговор завожу типа "че экологию нарушаешь, зачем ландшафт меняешь" чувак неразговорчивый какой то попался.
А тут еще камрад подошел, весь грязный с прибором на плече лопатой в другой руке спросил "есть че???"
Постояли, потупили неразговорчивый чел какой то, камраду и говорю - пойдем куда шли. Отошли метров на десять а чувак нам вслед:
"Чего копаю, чего копаю, собака сдохла схоронил я ее"
Автор -no name.
Ездил я как-то летом в Великий Новгород, чтобы что бы покопать по местам боёв. А идти до этого места нужно было 5 километров. Так вот, собрался я, взял прибор с лопатой и пошел. Пришел я на место, место болотистое. Комары кусают. Собираю шмурдяк всякий, за 3 часа - полный мешок набрал, стал выходить, вроде, знаю, куда идти, да в болото проваливаюсь по колена. Ну, думаю, ошибся, надо в другую сторону идти, пошел в обратном направлении, да не тут-то было - опять провалился в болото, куда ни пойду - все проваливаюсь. Все ноги сырые, да и темнеть уже стало. Стало не по себе, а вдруг не выберусь? И громко так сказал, ни к кому не обращаясь: "Ну, если я сам себе помочь не могу, помогите же мне!" И тут я услышал голос за спиной хриплый голос: "Беги и не оглядывайся." Я побежал, но бежал недолго и вышел на дорогу. Правда, лицо было в крови от того, что, пока бежал, ветки хлестали по лицу. Чей голос был за спиной - остается загадкой.
Автор -no name.
Не время было копать… Сергей прекрасно об этом знал. Середина июля в N-с кой области вообще непонятно для чего время. Слепни, размером с молочного поросенка, не обращая внимания на заморский реппелент, с жужжанием тяжелого бомбардировщика второй мировой атаковали открытые участки тела. Впрочем, и они были вялы и безжизненны – как никак, 34 по Цельсию и для них многовато.
Не время. Заросший бурьяном пустырь за сельским кладбищем еще смело можно было назвать и не местом, больно уж зловеще выглядела относительно пустая ровная поляна сто на сто метров среди осиновой рощи. Такое ощущение, что проклятая усадьба стояла тут еще лет пятнадцать назад, но «спасенный» Сергеем старик, представившийся как Ефимыч, странно крестившийся двумя пальцами, клялся, на чем свет стоит, что усадьба сожжена еще в 17 веке религиозными фанатиками. К слову сказать, многие сибиряки скептически принимали церковно-обрядную реформу 1653 года, введенную Патриархом Никоном с целью укрепления церковной организации в России, а так же призванную ликвидировать все разногласия между региональными православными церквями. Однако, Сергея больше заинтересовал рассказ Ефимыча о том, что в проклятом тереме спасение души через самосожжение приняли аж двенадцать местных святых отцов, с семьями, скарбом и «богатством великим, дабы не досталось вероотступникам алкающим…» Проспись, батя! Остановил шамкающую болтовню просившего опохмела старика Сергей, и протянул ему початую бутылку светлого импортного пива. Однако, из тканевого мешочка Ефимыч достал нечто такое, что заставило Сергея, видавшего виды копателя. забыть, зачем он приехал в Еремеевку, мотнутся за семьсот верст за металлоискателем и вопреки требованиям здравого смысла начать копать в такую неподходящую, мягко сказать, погоду. Оплавленный золотой слиток грамм на семьдесят с торчавшим из него изумрудом вряд ли представлял историческую ценность, но и в пересчете на ювелирку стоил недешево…. По рассказам Ефимыча, там такого добра видимо-невидимо, есть и «лики святые, огнем опаленные, но до тла не сгоревшие…» если бы не слиток в его руках, Серега махнул бы на все это рукой, слишком много подобных историй он слышал за свою сознательную копательскую жизнь. Но слиток грел руку, подмигивал мутным зеленым глазом и манил на поиски его собратьев… Про проклятость этого места Сергей вежливо выслушал старика, покивал, но не придал этому ни малейшего значения. Копания в костях Тосно в составе поискового отряда выработали у него философское отношение к смерти, пусть к самой ужасной.
Нддда, пустырь тот еще…. Двухметровые заросли бурьяна с трудом поддавались даже ударам лопаты. Пытаясь расчистить поле деятельности для металлоискателя, Сергей в который раз пожалел о невзятом у тестя мощном кусторезе… Лопата звонко врезалась в нечто. Так и знал, подумал Сергей, первым делом представив себе причину звона в виде ржавой арматуры остатков деревенского клуба… Обманул, Ефимыч… Однако при детальном рассмотрении жало лопаты блеснуло желтой стружкой. Отбросив в сторону металлоискатель, (поступок, которого он не позволял себе никогда!) Сергей упал на колени. Дрожащими как у новичка руками, до позднего вечера Серега обметал спекшийся кусок металла. Лишь с наступлением темноты, он понял, что ТАКОЙ хабарок ему одному не под силу… Надо бы перекурить это дело…. И тут он почувствовал, что на него смотрят. Подняв запыленное лицо, он увидел толпу странно одетых людей. Как на съемках фильма про Киевскую Русь. Впереди стоял Ефимыч собственной персоной.
- Не послушал меня, христопродавец ???-От позавчерашнего шамканья старика не осталось и следа.- Мало тебе, Иуда, за пиво копеечное, золота нашего??? Топор в руках Ефимыча без слов говорил о серьезности его намерений…
Как в страшном сне, Сергей начал вспоминал слова молитвы, но кроме «Иже еси» в голову ничего не шло… Крест, крест, нужен крест! В кармане, как всегда наудачу, Сергее носил Железный крест второй степени, не сданный им еще в годы работы «белым» копателем в местном поисковом отряде… Вытянув крест впереди себя, Сергей увидел злую усмешку на лице старика. – Христопродавец!!! Выдохнул он, сминая тремя пальцами немецкий орден. – Вероотступник!!! Блеск топора и сочное хрясь! Оборвало все земные чаяния Сергея…
Автор -no name.
Деревенька эта сгорела, по нашим данным, во время весенних палов 1821 года. Причем факт этот хорошо задокументирован. Проанализировав информацию, мы отправились на поиски места бывшей деревни. По нашим данным, она должна была находиться на боковом притоке большой реки, по карте наметили поляну и поехали проверять. До места не добрались километра два, бросили машину и пошли пешком.
Перемахнув через овраг и поднявшись на бугор, мы с напарником заметили избу. Самый обычный сруб, ничего примечательного. Пасека или охотничий домик. Таких по Сибири десятки тысяч. Не обратив на избушку никакого внимания, мы прошли мимо к своей цели. Через пару километров вышли на интересующую нас поляну. Судя по признакам, на этом месте действительно находилась старая деревня.
Расчехлив приборы начали искать. Находок было не много, и побродив пару часов, мы решили возвращаться обратно. Шли той же дорогой.
Дойдя до оврага, увидели, что на том бугре, где два часа назад стоял сруб, не было ничего. Изба просто исчезла. Видели мы ее оба, совсем рядом, может, метрах в ста проходили мимо по дороге туда. А по дороге обратно ее уже не было. В недоумении мы решили посмотреть это место поближе. Подошли на бугор и обнаружили там западину. Западинами в археологии называется такая яма, оставшаяся от жилища. Скажем так - бывший подпол или погреб, а бруствер западины - это бывшая завалинка. Если место не пахалось и не подвергалось иному воздействию человека, западины сохраняют свои очертания сотнями лет. Так вот, на месте, где совсем недавно видели избу, была классическая "домовая" западина. Мой напарник недолго думая включил металлоискатель и начал искать сигналы. Через полминуты выкопал медную монету времён Екатерины Второй. Я тут же присоединился к нему.
В общем, вокруг этого места мы нашли штук по 20 старых медных монет, самая "молодая" из них датировалась 1798 годом. Т.е однозначно могу сказать, что дома на этом месте не существует с 1798 года. Возможно это была деревня-однодворок, возможно, заимка - сказать трудно. Факт остается фактом.
Два часа назад мы видели на этом месте дом, которого нет уже больше 200 лет. Как то это объяснить - не переставляю, напарник тоже. Страха или какой либо паники не было совсем. Просто недоумение.
Автор -no name.
День клонился к закату. Медленно шествующая по заброшенному полю фигура с металлодетектором отбрасывала длинную тень. В наушниках мерно звучали сигналы цветного металла, поисковик неспеша приседал и, разминая вскрытый дёрн руками, искал находку. Неожиданно, совсем рядом, раздались громкие голоса. Человека четыре, пошатываясь неотвратимо приближались...
Это были месные. Их хутора находились в пределах прямой видимости. Несмотря на то, что стрелка часов не перевалила за пятый час, они были изрядно пьяны.
- Ага! - закричал краснолицый здоровяк - Золото ищешь на моей земле!
Напрасно поисковик показывал найденные, стоящие считанные сантимы, медные монеты, их было не переубедить.
- А что ты тут копаешь? Гони сюда детектор! Это моя земля! - всё более краснея кричал краснолицый.
- Я сейчас сломаю его палку! - шамкал рядом пьяный беззубый старик, вырывая у искателя аппарат. Не знали они что прибор стоил пол тысячи латов, иначе просто, пользуясь силой, его бы забрали. Доводы поисковика о невозможности определить принадлежность участка земли в данном случае конкретному хозяину не принимались во внимание. Газовый пистолет остался в машине.
Тогда всё обошлось двумя латами на водку. Если бы, разрешённое ныне к хранению и ношению, газовое оружие находилось при поисковике, возможно конфликт был бы исчерпан одной его демонстрацией, ибо действия собственника земли можно было расценить как хулиганство и порчу чужого имущества, и, возможно, адекватная самооборона была бы оправдана.
Как строить взаимоотношения с хозяевами земли? Помните - всегда можно и нужно договариватся! Людям всегда интересно, что скрывается под толщей их земли. Вряд ли они будут претендовать на находки, видя преимущественно эхо войны а не золото. А старожилы дополнительно расскажут вам массу интересных и правдивых историй. Но бесчинства пьяных и агрессивных надо пресекать. Никто и никогда не запрещал прогулку с металлодетектором. Хозяин земли, не желающий присутствия посторонних, обязан оградить свой лес забором, либо прибить на каждом дереве - "Privatipasums". Вы не обязаны знать без соответствующих надписей, кому принадлежит земля на которой вы находитесь.
Другое дело лесники, и другие представители государственных органов, их желательно предупредить о появлении в их владениях. Частенько одетых в камуфляж поисковиков принимают за браконьров, а это куда более наказуемо нежели металлопоиск.
Несомненно и тут всё зависит от настроения конкретного человека, вот например, председатель одного местного охотхозяйства, такой крепенький хозяин, даже после предоставления всех необходимых документов и разрешений на раскопки в находящемся в его ведомости лесу, хмуро предложил убиратся, аргументировав брачным периодом у его подопечных зверей, якобы которых в это время нельзя беспокоить. В то же время недалеко раздавался рёв бензопил - вырубали лес.
Попытавшись узнать причину столь нелюбезного отношения мы расспросили более дружелюбного коллегу - оказалось что председатель утерял в лесу новую охотничью сумку, и поэтому зол на всех и вся. Но увы, пришлось сматывать удочки, человек наделённый властью мог доставить нам массу неприятностей.
А вот другой случай. Один наш заблудившийся в чаще поисковик не смог придумать ничего лучше, как открыть пальбу из газового пистолета. Латвия очень маленькая страна, и жильё есть практически везде. Поэтому естественно у машины нас уже ждали полицейский и волостной глава.
Слава богу, они оказались очень понятливыми мужиками. Хватило демонстрации двух полиэтиленовых мешков с останками солдат. Но убедится что пистолет был газовый они не забыли. Разговорились. Узнав что мы занимаемся военным поиском, волостной глава посетовал что в его пруду, приспособленном для ловли рыбы и купания после бани лежит какая то круглая металлическая дура.
"Вообще-то с неё мои бабы бельё стирают" - рассказывал глава волости - "Но вы посмотрите что это такое".
"Дура" оказалась реактивным снарядом от полкового миномёта "Ванюша". Размер воронки в случае подрыва этого снаряда составлял бы примерно размер пруда волостного главы. Взрыватель был вкручен...
Гордо попросив всех удалится на безопасное расстояние, наш сапёр, вооружённый лишь плоскогубцами, стал вытягивать снаряд из ила пруда. И вот уже обезвреженная болванка лежит в машине.
Её мы утопили в глубокой канаве, далеко от жилья. А волостной глава долго нас благодарил, приглашая вернутся ещё раз...
Автор -no name.
В детстве я очень хотел изобрести машину времени чтобы посмотреть как люди жили в былые времена...
Осенний жёлтый лист тихо сорвался с ветки и, неспешно пикируя, упал на землю. Дни сменялись ночами, годы десятилетиями, десятилетия столетиями. Тишина, нарушаемая лишь шорохом жёлтого ковра под ногами, почти абсолютна. Заросли старые окопы как затянулись старые раны, покрылись мхом остатки накатов блиндажей, и вот уже скоро останутся они лишь как неприметные холмики, как могилы прошедшего.
Отгремели, отгрохотали сражения, но их звуки ещё не затихли в непроходимой чаще. Сухие ветви, как руки мертвецов в обрывках шинелей тянутся к лицу. И вот перед глазами начинает мелькать летопись времён. Солнце всходит и заходит. Войны пожирают очередные судьбы и жизни.
Земля нашпигована железом. Каждый сантиметр содержит бесформенные осколки разных размеров. Передовая. Какой же ад здесь творился почти сто лет назад. А сейчас тишина. Но нужно лишь хорошо прислушатся, и ржание коней, стоны раненых, свист пуль и осколков. И огонь и смерть повсюду.
Множество касок, как в строю, лежат на лавке во дворе небольшого частного хозяйства в Курляндии. В каждой пулевые и осколочные отверстия. Изрешечёный металлом металл. Часто количество входных отверстий не соответствует выходным. Что стало с тем что было в этих касках?
Хозяин дал разрешение на раскопки за "десятку". Шестнадцать бойцов было найдено в небольшой яме сразу за его озером. Хуторянин лишь посмотрел, пожал плечами и отправился по своим делам - стояла страда. Его прошлая война не интересовала.
"Что вы ищете?" - иногда срашивают нас.
Время. Прикосновения к прошедшему. Один поисковик долго небывший в лесу сказал: "Мне срочно нужна свежая энергетика железа". Энергетический вампиризм? На этом железе реки крови.
Знакомый, довольно не плохо зарабатывающий бизнесмен любитель походить по пляжу: "Поиск монеток в песке на заре, когда море искрится утренними лучами, вот высочайшее наслаждение для меня. И конечно тишина". Он тоже ищет Вчерашний День.
Эхо прошедшего. Один знакомый астролог-искатель говорил: "Самые интересные находки на самой заре. Просто прислушайся к их голосам". Иногда они кричат, иногда шепчут, иногда рыдают. Слышать можно за многие километры.
Ты бросаешь всё, судорожно листаешь карты, и едешь навстречу Неизвестному. Шумит лес, негромко пищит металлодетектор и ты, уподобляясь шаману, пытаясь расшифровать непонятные звуки, оказываешся Там, далеко отсюда, от надоевших серых будней, нелюбимой работы, шумного города. Ты буквально переносишся через реку времён, оставаясь самим собой.
Вот старая дорога. Сколько прошагали, проскакали, проехали по ней. Сколько находок втоптано в её земляную колею.
Царский пятачок, довольно крупная монета, как она сюда попала? Не иначе безъизвестный солдатик сунул деньги в прохудившийся карман. Рядом шарики шрапнели, издалека видно. Немецкая пуговица с короной, нитки гнилые у них были под конец войны. Крупная пломба с орлом и годом "1914"...
Одиночный окоп с россыпью гильз от ППШ - здесь отстреливались до последнего. Котелок с надписью: "Краснодарский район. Деревня Шепетовка. Дом 16. Виля Панин." Как сложилась судьба Вили? Остался ли он жив после этого страшного боя? Вернулся ли домой, в свою деревню?
Лесная глушь. Похоже с войны не ступала здесь нога человека. Две немецкие каски, покрытые мхом лежат прямо на поверхности. Так, как их бросили шестьдесят лет назад. Что было дальше с их владельцами? Плен? Смерть?
Остатки самолёта разбросанные в радиусе ста метров. Приборная панель. Время бортовых часов навсегда застыло на семнадцать пятьдесят четыре. Это было их последнее сражение. Успели катапультироватся? Или тела их здесь, смешанные с песком и грязью.
Сколько событий связано с предметами из-под земли. Они прямо оттуда, из прошлого, их не касалась рука человеческая многие годы. Достаточно лишь взять их в руки чтобы почувствовать дыхание времени.
А машину времени не надо изобретать, она уже давно изобретена. И называется она - МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ.
Автор -no name.
Как то ездил в выходные домой, в Подмосковье, и пересекся с другом Серёгой, который владеет грузовым "Бычком" и подрабатывает грузовым извозом. Время от времени ему подкидывает заказы грузин Гога, герой пары заметок, написанных ранее, соответственно информацию об этом индивидууме я воле-неволей периодически получаю.
Если кто-то не читал ранее, Гога промышляет скупкой черного металла и разводит скотину. У него в подчинении находиться зондеркоманда из цыган, пылесосящая в округе все, что имеет свойства магнититься и ржаветь.
Серега сдуру рассказал грузинскому негоцианту о том, как при Союзе вывозил с территории завода Сельхозмаш контейнера с браком и отходами производства - кто тогда железо считал за ценность или дефицит? Контейнера вывозили на погрузчиках за территорию завода и закапывали в траншеях бульдозером. Гога понял, что это Клондайк, Эльдорадо!!!
- Сэрый, пашлы жэлэзо за завод копат!
Серега опешил - как же его искать -то, оно ж зарыто хрензнатькогда!
-А слюшай! Умена это есть..... Искатэль!
Дружбан кроме моей бывшей Аськи, да девайсов типа ИМП, знакомых по Советской армии, металлодетекторов больше не видел, но показанное Гогой ввергло его в смесь шока и истерического веселья.
Он описал это так:
-Сержик, это пипец! Представляешь - замусоленная деревянная палка, типа ручки от швабры, снизу примотан проволокой и и обклеенный разноцветной фольгой от пивных банок алюминевый обруч, четыре батарейки крона и китайские наушники! И эта хрень еще и работает!!! Когда обруч подносишь к металлу - в наушниках слышен треск, просто караул!
Гога с помощью своего мутанта все таки нашел два полутонных контейнера с железом и уговаривал Серегу "пойти их дернуть машиной". Серега вежливо отказался, про себя послав его подальше - Бычек все таки не танк.
Вот такая история
Автор -no name.
Вот уже много лет я занимаюсь таким хобби, как кладоискательство, поиск различной старины и свидетельств прошлого. Как-то незаметно для себя занялся исследованием исторической науки почти профессионально.
«Почти», потому что по образованию я все-таки не историк. Материала накопилось не на одну диссертацию — начал публиковать статьи, сводить воедино всю информацию, которую удалось накопить за годы. Я и с женой-то познакомился, когда пришел на кафедру Отечественной истории, чтобы оформить научное руководство. Она тоже работает над диссертацией и тоже по нашей «сибирской» тематике. Именно со своими изысканиями я и склонен связывать произошедший со мной случай. Последний год я как-то отошел от научных и поисковых дел, захлестнула работа, стройка дома. Металлоискатель покрылся слоем пыли, недописанную диссертацию открывал очень редко, а сил хватило всего на пару научных статеек.
В один погожий выходной, в сентябре, удалось вырваться за город на одно, так сказать, культовое место. Когда-то давно была на этом месте богатая ямщицкая деревня Мысовая, аккурат на старом сибирском тракте. Поселились первые жители здесь в незапамятные времена. Место это удивительной красоты и уюта. Сколько раз мне приходилось убеждаться в том, что умели наши прадеды выбирать место для житья. Жизнь деревеньки кипела на протяжении двух столетий. Помнят эти река и лес, как мчались по Великому тракту кибитки, помнят Радищева и Декабристов. Говорят, сам Антон Павлович Чехов отобедал у местного старосты и за чаркой водки жаловался на обе русские проблемы. Двадцатый век перевернул жизнь старой сибирской деревни. Стал не нужен людям Великий московский тракт, загремела железная дорога, помчались паровозы, полетели «ерапланы». Войны, Революции, исторические вихри довершили свое дело — нет больше на карте старинной деревеньки. В конце 1940-х покинул ее последний житель. Обмелела река, заросли травой огороды, оплыла старая трактовая насыпь. Только ямы от домов, бань и овин уныло смотрят в небо. Бродил я вокруг них и размышлял над всем этим, пытаясь одновременно сличить все окружающее меня с планом деревни, начертанном в Томской губернской чертежне, года 1823 месяца мая 20 дня. Вот где-то здесь некогда была почтовая станция и жил станционный смотритель, наверняка, какой-нибудь Самсон Вырин с дочкой Дуней. А вот возле того куста был когда-то мосток через ручей.
Жена моя в это время с подругой суетилась на другом берегу речки, у костра, готовя обед. Присел я отдохнуть на край одной большой западины от дома погреться на солнышке и сам не заметил, как задремал. Сном это состояние назвать трудно, скорее, какое-то забытье — снится мне что-то и в это же время я слышу все, что происходит вокруг. Пастух на противоположном берегу реки хлестнул кнутом и добавил что-то едкое в адрес совхозных коров, где-то в соседней деревне тарахтит мотоцикл, высоко-высоко гудит самолет. Все эти звуки доходят до моего сознания. В один прекрасный момент я смотрю на окружающую меня местность и не узнаю ее. Место то же, но вместо, гладко под газон выщипанной коровами поляны, вокруг меня заросшая бурьяном площадь. Среди этой травы стоят русские печи. Нет ни домов — ничего. Так и стоят под открытым небом. Подхожу к одной из них и откалываю кирпич, беру его в руки, ощущаю тяжесть и холод обожженной глины. На нем клеймо старинного завода и двуглавый орел. Мелькает мысль, что жене такое должно понравиться, начинаю откалывать остальные. Где-то клейма видны четко, где-то приходится соскребать кладочную глину. Складываю кирпичи в штабель. С четкими клеймами в одну сторону, остальные — в другую. Удивления никакого нет. Прикидываю, что хорошо бы подогнать машину и сложить их в багажник. В этот момент ощущаю на себе пристальный взгляд в спину, оборачиваюсь и вижу двух мужичков. Я хорошо разглядел и лица и одежду, но, хоть убейте, не запомнил. Помню только, что одеты были во что-то светлое, возможно, в льняные рубахи или сорочки — у одного на голове была шапчонка. Стоят они двое, сверлят меня взглядами – по-другому сказать не могу. И тут один другому говорит: «Это копатель, я их знаю. Тут один из таких мне ребро сломал и череп ногою раздавил». И все.
Проснулся я на краю впадины, огляделся — все по-прежнему. Выпас, машина на другом берегу, пастух, загоняющий стадо в соседнюю деревню. Страха не было. Но ощущение полного присутствия не покидает меня до сих пор. Как будто все случилось наяву. Хочу еще сказать, что ни я, ни мои знакомые коллеги-кладоискатели никогда не копали ни кладбищ ни останков.
Автор -no name.
Есть у меня один друг, назовём его Андрей, проживающий в сельской местности. И как многие из копарей не горожан, чаще всего он занимается поиском старины не особенно далеко от своего посёлка. Попутно и сбором чермета промышляет. Благо деревень и починков в тех местах некогда было превеликое множество, сейчас хорошо если с полтора десятка жилых наберётся.
Прошлой осенью он мне рассказывал об одной бабульке, у которой ему доводилось несколько раз оставлять мотоцикл. Жила она одиноко в маленькой деревне находящейся в десяти километрах от дома моего друга.
Сетовала бабушка, что за ерундовую помощь по огороду какой-то мужичонка, как понял мой друг, изрядно закладывающий за воротник, дерёт с неё бешеные деньги. Приезжает он весной и осенью из другой деревни и помогает за плату, разумеется, нескольким местным старикам в огородных делах.
В общем, пожалел мой друг бабульку и пообещал по весне вскопать в огороде всё, что потребуется. Тем более, по его словам, работы там было на час, полтора от силы. Много ли ей надо одной. Естественно ни о какой оплате и речи не шло. Предварительно прозвонить свой огород металлодетектором довольная старушка само собой разрешила.
И вот в апреле, как только дороги достаточно продуло для проезда мотоцикла с коляской, Андрей двинул на коп в те места и, помня о своём обещании, завернул к бабушке.
Вскапывать огород было ещё рановато, а вот поискать интересности в самый раз. Конечно, сначала он малость помог по хозяйству, где-то подколотил, что-то заменил, ну а потом здоровенный, на 3/4 не обрабатываемый участок был полностью в его распоряжении.
Мусора оказалось на удивление мало. Для огорода мало, это когда не по три сигнала на одну проводку катушки. Обычно деревенские жители высыпают в свои огороды золу из печи в качестве удобрения, ну а вместе с золой летят на землю гвозди и прочий мет. мусор. Зато не попадалось алко-дирхемов (водочных пробок) и совсем немного проволоки. Муж старушки умерший много лет назад был почти непьющим, так что каждый хороший сигнал «Проши» (Garrett AT PRO) означал находку.
Было много «советов», к сожалению, из них ранних и десятка не набралось. Империя представлена рядовыми медными монетами 19-20 вв. Правда, попал один пятачок Екатерины II, да пара копеек Павла I.
Андрей уже заканчивал обследование облюбованной части огорода, когда «Проша» в очередной раз «сказал» – копай, и на свет божий из многолетнего забвения явился знак.
193-й пехотный Свияжский полк. Был учреждён 25 апреля 1911 года. И состояние, в общем, не плохое. Утраты незначительные.
Бабушка ничего не могла сказать о том, откуда мог взяться такой знак в её земле, это собственно и не удивительно, учитывая, что муж привёл её в свой дом, только в 60-х годах.
Особого интереса она к находке не проявила и разрешила моему другу забрать знак себе, причём очень удивилась, когда он пообещал привезти ей целый рюкзак продуктов в следующий раз.
На этом всё и закончилось в тот день.
По просьбе Андрея знак теперь определяет и оценивает один наш общий знакомый. От себя могу сказать, что знак нечастый. Вот такая история, которая, кстати, будет иметь продолжение, так как предстоит вскапывание огорода с предварительным обследованием нетронутой части.

Копаем с Юрой(имя изменено) по разные стороны дороги ( верх выбит давно, сначала шурфик на штык бьешь, потом фонишь). Время около 6 вечера, солнце за спиной, но еще не село.Вытащил наконечник прикольный, поднимаюсь и делаю шаг к другу, похвастаться и покурить заодно. Расстояние между нами метров двадцать, краем глаза ловлю движение слева, поворачиваю голову и челюсть отваливается. Перпендикулярно моему движению, абсолютно бесшумно движется фигура в переливающемся камуфляже. Рост 2 метра, шлем на голове как конус в плечи уходит. Скорость как чел бысто идет. Движется примерно посередине между мной и Юрком. Испуга нет, удивление необычайное. Почти полная аналогия фильма "Хищник". Кричу "ЮРА! ТЕНЬ! Провожаю ее взглядом, она исчезает как раз напротив нас. Смотрю , Юрок сидит на песке, глаза из орбит выходят.
Автор -no name.
Дело было в прошлом году на Невском Пятачке на Зольнике. Мы там вахтой стояли. Вечером дело было. Отощёл от полатки по нужде. Стою, курю. На зольник смотрю. И вдруг вижу боковым зрением что-то по зольнику несётся с большой скоростью, метрах в 100 от меня. Я пригляделся-человек, но однородный, тёмно-серого цвета. И бежит километров 30 в час. Ногами не перебирая. И ног как таковых не видно. Однородная масса. Добежал до края Зольника и ап....испарился. Я к ребятам подхожу, рассказываю, а один говорит типа...ну и что, это фантом был. И спокойно так своими делами занимается. Я говорю-понятно и иду спать, хотя так и не уснул.
Автор -no name.
Произошел случай, мы с мужем были, мягко говоря, в шоке...
В общем, дело было так: решили мы съездить с ним (а также моей подругой и ее мужем) в одно "прикормленное" местечко, развеяться а заодно блиндажик до ковырять. Ехали почти на шару - т.к. погода подкачала, снег-ветер, холод... Но, вопреки всему, улыбнулась удача - ганс-штык, касочка, и по мелочи. Останков не было - если не считать пары осколков берцовой. В общем, погрузили все, я за рулем, и "поплыли" к дому. Так вот. По прибытии все распаковали, штык - в керосинчик, и баюшки. Как вдруг ночью слышу грохот какой-то и трехэтажный мат. Мы все вскакиваем, что случилось? Смотрю - а муж в ванной с разбитой головой (ссадина серьезная) на карачках на полу. "Начинаем разбираться. И вот тут он (муж) и говорит - "Сплю я, и тут словно просыпаюсь. Ну то есть думаю что проснулся. Смотрю - парень какой-то меня за рукав теребит Мол, вставай, чел, где тут мои вещички-то? Которые ты прихватил". - Муж в непонятках, а тот его торопит - "Давай вставай". Ну муж и встал, а тот его торопит. А штык у нас в ванной лежал в пластиковой бутыли в керосине. Ну муж когда понял что от него хотят, пошел в ванну. И навернулся ногой о приступку. Шмякнулся головой, шишку хорошую заработал.
Вот такие пироги. До сих пор говорит что не верил, что спит, как наяву все было.
Вот не знаю, что и думать, и что со штыком теперь делать
Автор -no name.
Расскажу небольшую байку...Подняли мы с камрадом двух гансов в районе Апраги.На двоих у них было две мыльницы,два перочинных ножа,два презерватива и всякий хлам.Остатки униформы патроны и мелочёвка. Гансов прикопали. Потом сдали их останки. Сделали всё как надо. Я уже и забыл про это всё. А недавно я крутил в руках мыльницу которую забрал у немца и обнаружил бурые следы на ней. Пришёл к мнению что это кровь запеклась.Так вот... Собрался с ребятами на коп недавно. Лёг спать. Вставать рано надо, в 6-30. Сплю и сниться мне сон,явный такой сон...Что я проснулся, встал,встретил товарищей и мы копать приехали. Они в блине ковыряются а я вылез отдохнуть. Сел. И тут ко мне солдат подходит в немецкой форме и говорит:
- Димон, ты у меня зачем мыльницу забрал? Она моя,отдай мне её пожалуйста, мне умываться нечем...
Проснулся я естественно.Страшно как то стало...Так уснуть и не смог.Прозвенел будильник и я пошёл собираться...
Автор -no name.
Приходил тут ко мне камрад один, ну я хвастался хабарком за сезон порадовал, повыкладывал всё, показал, сложил(дело вечером было)лёг спать... Утром встал всё вроде в поряде. Что-то снилось, но непомню! Стал кровать застилать а тут ганс пряга (алюминька) возле самой подушки лежит, ну думаю забыл вчера положить, беру её и тут вспоминается мой сон!
Значит поле слегка холмистое я лежу, вокруг тоже много людей лежат и почему-то я знаю что это солдаты немцы, вроде тоже как с ними... и тут разрыв мины метров в ста впереди от меня БабаХ! потом чуть правее БабаХ! страшно!( а про себя думаю разрывы небольшие но фонтан грязи высоко взлетает значит лёгкий русский миномёт работает... ) дальше... лежим я поворачиваю голову назад а там чуть позади ещё группа солдат залегла.. и снова разрыв прям в центре тех кто позади меня лежит! ну думаю парней осколками посекло... еще разрыв и мина угодила прям в солдата его чуть выше травы подбросило....а потом как то всё непонятно все под какие-то заросли бегут, и я под дерево спрятался и набилось людей там тьма!-----
Ну вот как бы и весь сон....думаю вот это да-а-а ... а пряга что забыл... была поднята с нем. солдата которого разнесло осколками до неузнаваемости(череп разбит.. кости вперемешку) вот теперь и думаю... бывают совпадения же .
Автор -no name.
А у меня случай был! С камрадом блин копали, и собираемся домой. Ну все вещи взяли и идем вдруг слышу кто то лопатой ширк,ширк я за кусты зашел и вижу человек на раскопе ковыряется (странно как то не вглубь а как то как землю разгребает) я к нему подхожу ну, и разговор завожу типа "че экологию нарушаешь, зачем ландшафт меняешь" чувак неразговорчивый какой то попался.
А тут еще камрад подошел, весь грязный с прибором на плече лопатой в другой руке спросил "есть че???"
Постояли, потупили неразговорчивый чел какой то, камраду и говорю - пойдем куда шли. Отошли метров на десять а чувак нам вслед:
"Чего копаю, чего копаю, собака сдохла схоронил я ее"
Автор -no name.
Ездил я как-то летом в Великий Новгород, чтобы что бы покопать по местам боёв. А идти до этого места нужно было 5 километров. Так вот, собрался я, взял прибор с лопатой и пошел. Пришел я на место, место болотистое. Комары кусают. Собираю шмурдяк всякий, за 3 часа - полный мешок набрал, стал выходить, вроде, знаю, куда идти, да в болото проваливаюсь по колена. Ну, думаю, ошибся, надо в другую сторону идти, пошел в обратном направлении, да не тут-то было - опять провалился в болото, куда ни пойду - все проваливаюсь. Все ноги сырые, да и темнеть уже стало. Стало не по себе, а вдруг не выберусь? И громко так сказал, ни к кому не обращаясь: "Ну, если я сам себе помочь не могу, помогите же мне!" И тут я услышал голос за спиной хриплый голос: "Беги и не оглядывайся." Я побежал, но бежал недолго и вышел на дорогу. Правда, лицо было в крови от того, что, пока бежал, ветки хлестали по лицу. Чей голос был за спиной - остается загадкой.
Автор -no name.
Не время было копать… Сергей прекрасно об этом знал. Середина июля в N-с кой области вообще непонятно для чего время. Слепни, размером с молочного поросенка, не обращая внимания на заморский реппелент, с жужжанием тяжелого бомбардировщика второй мировой атаковали открытые участки тела. Впрочем, и они были вялы и безжизненны – как никак, 34 по Цельсию и для них многовато.
Не время. Заросший бурьяном пустырь за сельским кладбищем еще смело можно было назвать и не местом, больно уж зловеще выглядела относительно пустая ровная поляна сто на сто метров среди осиновой рощи. Такое ощущение, что проклятая усадьба стояла тут еще лет пятнадцать назад, но «спасенный» Сергеем старик, представившийся как Ефимыч, странно крестившийся двумя пальцами, клялся, на чем свет стоит, что усадьба сожжена еще в 17 веке религиозными фанатиками. К слову сказать, многие сибиряки скептически принимали церковно-обрядную реформу 1653 года, введенную Патриархом Никоном с целью укрепления церковной организации в России, а так же призванную ликвидировать все разногласия между региональными православными церквями. Однако, Сергея больше заинтересовал рассказ Ефимыча о том, что в проклятом тереме спасение души через самосожжение приняли аж двенадцать местных святых отцов, с семьями, скарбом и «богатством великим, дабы не досталось вероотступникам алкающим…» Проспись, батя! Остановил шамкающую болтовню просившего опохмела старика Сергей, и протянул ему початую бутылку светлого импортного пива. Однако, из тканевого мешочка Ефимыч достал нечто такое, что заставило Сергея, видавшего виды копателя. забыть, зачем он приехал в Еремеевку, мотнутся за семьсот верст за металлоискателем и вопреки требованиям здравого смысла начать копать в такую неподходящую, мягко сказать, погоду. Оплавленный золотой слиток грамм на семьдесят с торчавшим из него изумрудом вряд ли представлял историческую ценность, но и в пересчете на ювелирку стоил недешево…. По рассказам Ефимыча, там такого добра видимо-невидимо, есть и «лики святые, огнем опаленные, но до тла не сгоревшие…» если бы не слиток в его руках, Серега махнул бы на все это рукой, слишком много подобных историй он слышал за свою сознательную копательскую жизнь. Но слиток грел руку, подмигивал мутным зеленым глазом и манил на поиски его собратьев… Про проклятость этого места Сергей вежливо выслушал старика, покивал, но не придал этому ни малейшего значения. Копания в костях Тосно в составе поискового отряда выработали у него философское отношение к смерти, пусть к самой ужасной.
Нддда, пустырь тот еще…. Двухметровые заросли бурьяна с трудом поддавались даже ударам лопаты. Пытаясь расчистить поле деятельности для металлоискателя, Сергей в который раз пожалел о невзятом у тестя мощном кусторезе… Лопата звонко врезалась в нечто. Так и знал, подумал Сергей, первым делом представив себе причину звона в виде ржавой арматуры остатков деревенского клуба… Обманул, Ефимыч… Однако при детальном рассмотрении жало лопаты блеснуло желтой стружкой. Отбросив в сторону металлоискатель, (поступок, которого он не позволял себе никогда!) Сергей упал на колени. Дрожащими как у новичка руками, до позднего вечера Серега обметал спекшийся кусок металла. Лишь с наступлением темноты, он понял, что ТАКОЙ хабарок ему одному не под силу… Надо бы перекурить это дело…. И тут он почувствовал, что на него смотрят. Подняв запыленное лицо, он увидел толпу странно одетых людей. Как на съемках фильма про Киевскую Русь. Впереди стоял Ефимыч собственной персоной.
- Не послушал меня, христопродавец ???-От позавчерашнего шамканья старика не осталось и следа.- Мало тебе, Иуда, за пиво копеечное, золота нашего??? Топор в руках Ефимыча без слов говорил о серьезности его намерений…
Как в страшном сне, Сергей начал вспоминал слова молитвы, но кроме «Иже еси» в голову ничего не шло… Крест, крест, нужен крест! В кармане, как всегда наудачу, Сергее носил Железный крест второй степени, не сданный им еще в годы работы «белым» копателем в местном поисковом отряде… Вытянув крест впереди себя, Сергей увидел злую усмешку на лице старика. – Христопродавец!!! Выдохнул он, сминая тремя пальцами немецкий орден. – Вероотступник!!! Блеск топора и сочное хрясь! Оборвало все земные чаяния Сергея…
Автор -no name.
Деревенька эта сгорела, по нашим данным, во время весенних палов 1821 года. Причем факт этот хорошо задокументирован. Проанализировав информацию, мы отправились на поиски места бывшей деревни. По нашим данным, она должна была находиться на боковом притоке большой реки, по карте наметили поляну и поехали проверять. До места не добрались километра два, бросили машину и пошли пешком.
Перемахнув через овраг и поднявшись на бугор, мы с напарником заметили избу. Самый обычный сруб, ничего примечательного. Пасека или охотничий домик. Таких по Сибири десятки тысяч. Не обратив на избушку никакого внимания, мы прошли мимо к своей цели. Через пару километров вышли на интересующую нас поляну. Судя по признакам, на этом месте действительно находилась старая деревня.
Расчехлив приборы начали искать. Находок было не много, и побродив пару часов, мы решили возвращаться обратно. Шли той же дорогой.
Дойдя до оврага, увидели, что на том бугре, где два часа назад стоял сруб, не было ничего. Изба просто исчезла. Видели мы ее оба, совсем рядом, может, метрах в ста проходили мимо по дороге туда. А по дороге обратно ее уже не было. В недоумении мы решили посмотреть это место поближе. Подошли на бугор и обнаружили там западину. Западинами в археологии называется такая яма, оставшаяся от жилища. Скажем так - бывший подпол или погреб, а бруствер западины - это бывшая завалинка. Если место не пахалось и не подвергалось иному воздействию человека, западины сохраняют свои очертания сотнями лет. Так вот, на месте, где совсем недавно видели избу, была классическая "домовая" западина. Мой напарник недолго думая включил металлоискатель и начал искать сигналы. Через полминуты выкопал медную монету времён Екатерины Второй. Я тут же присоединился к нему.
В общем, вокруг этого места мы нашли штук по 20 старых медных монет, самая "молодая" из них датировалась 1798 годом. Т.е однозначно могу сказать, что дома на этом месте не существует с 1798 года. Возможно это была деревня-однодворок, возможно, заимка - сказать трудно. Факт остается фактом.
Два часа назад мы видели на этом месте дом, которого нет уже больше 200 лет. Как то это объяснить - не переставляю, напарник тоже. Страха или какой либо паники не было совсем. Просто недоумение.
Автор -no name.
День клонился к закату. Медленно шествующая по заброшенному полю фигура с металлодетектором отбрасывала длинную тень. В наушниках мерно звучали сигналы цветного металла, поисковик неспеша приседал и, разминая вскрытый дёрн руками, искал находку. Неожиданно, совсем рядом, раздались громкие голоса. Человека четыре, пошатываясь неотвратимо приближались...
Это были месные. Их хутора находились в пределах прямой видимости. Несмотря на то, что стрелка часов не перевалила за пятый час, они были изрядно пьяны.
- Ага! - закричал краснолицый здоровяк - Золото ищешь на моей земле!
Напрасно поисковик показывал найденные, стоящие считанные сантимы, медные монеты, их было не переубедить.
- А что ты тут копаешь? Гони сюда детектор! Это моя земля! - всё более краснея кричал краснолицый.
- Я сейчас сломаю его палку! - шамкал рядом пьяный беззубый старик, вырывая у искателя аппарат. Не знали они что прибор стоил пол тысячи латов, иначе просто, пользуясь силой, его бы забрали. Доводы поисковика о невозможности определить принадлежность участка земли в данном случае конкретному хозяину не принимались во внимание. Газовый пистолет остался в машине.
Тогда всё обошлось двумя латами на водку. Если бы, разрешённое ныне к хранению и ношению, газовое оружие находилось при поисковике, возможно конфликт был бы исчерпан одной его демонстрацией, ибо действия собственника земли можно было расценить как хулиганство и порчу чужого имущества, и, возможно, адекватная самооборона была бы оправдана.
Как строить взаимоотношения с хозяевами земли? Помните - всегда можно и нужно договариватся! Людям всегда интересно, что скрывается под толщей их земли. Вряд ли они будут претендовать на находки, видя преимущественно эхо войны а не золото. А старожилы дополнительно расскажут вам массу интересных и правдивых историй. Но бесчинства пьяных и агрессивных надо пресекать. Никто и никогда не запрещал прогулку с металлодетектором. Хозяин земли, не желающий присутствия посторонних, обязан оградить свой лес забором, либо прибить на каждом дереве - "Privatipasums". Вы не обязаны знать без соответствующих надписей, кому принадлежит земля на которой вы находитесь.
Другое дело лесники, и другие представители государственных органов, их желательно предупредить о появлении в их владениях. Частенько одетых в камуфляж поисковиков принимают за браконьров, а это куда более наказуемо нежели металлопоиск.
Несомненно и тут всё зависит от настроения конкретного человека, вот например, председатель одного местного охотхозяйства, такой крепенький хозяин, даже после предоставления всех необходимых документов и разрешений на раскопки в находящемся в его ведомости лесу, хмуро предложил убиратся, аргументировав брачным периодом у его подопечных зверей, якобы которых в это время нельзя беспокоить. В то же время недалеко раздавался рёв бензопил - вырубали лес.
Попытавшись узнать причину столь нелюбезного отношения мы расспросили более дружелюбного коллегу - оказалось что председатель утерял в лесу новую охотничью сумку, и поэтому зол на всех и вся. Но увы, пришлось сматывать удочки, человек наделённый властью мог доставить нам массу неприятностей.
А вот другой случай. Один наш заблудившийся в чаще поисковик не смог придумать ничего лучше, как открыть пальбу из газового пистолета. Латвия очень маленькая страна, и жильё есть практически везде. Поэтому естественно у машины нас уже ждали полицейский и волостной глава.
Слава богу, они оказались очень понятливыми мужиками. Хватило демонстрации двух полиэтиленовых мешков с останками солдат. Но убедится что пистолет был газовый они не забыли. Разговорились. Узнав что мы занимаемся военным поиском, волостной глава посетовал что в его пруду, приспособленном для ловли рыбы и купания после бани лежит какая то круглая металлическая дура.
"Вообще-то с неё мои бабы бельё стирают" - рассказывал глава волости - "Но вы посмотрите что это такое".
"Дура" оказалась реактивным снарядом от полкового миномёта "Ванюша". Размер воронки в случае подрыва этого снаряда составлял бы примерно размер пруда волостного главы. Взрыватель был вкручен...
Гордо попросив всех удалится на безопасное расстояние, наш сапёр, вооружённый лишь плоскогубцами, стал вытягивать снаряд из ила пруда. И вот уже обезвреженная болванка лежит в машине.
Её мы утопили в глубокой канаве, далеко от жилья. А волостной глава долго нас благодарил, приглашая вернутся ещё раз...
Автор -no name.
В детстве я очень хотел изобрести машину времени чтобы посмотреть как люди жили в былые времена...
Осенний жёлтый лист тихо сорвался с ветки и, неспешно пикируя, упал на землю. Дни сменялись ночами, годы десятилетиями, десятилетия столетиями. Тишина, нарушаемая лишь шорохом жёлтого ковра под ногами, почти абсолютна. Заросли старые окопы как затянулись старые раны, покрылись мхом остатки накатов блиндажей, и вот уже скоро останутся они лишь как неприметные холмики, как могилы прошедшего.
Отгремели, отгрохотали сражения, но их звуки ещё не затихли в непроходимой чаще. Сухие ветви, как руки мертвецов в обрывках шинелей тянутся к лицу. И вот перед глазами начинает мелькать летопись времён. Солнце всходит и заходит. Войны пожирают очередные судьбы и жизни.
Земля нашпигована железом. Каждый сантиметр содержит бесформенные осколки разных размеров. Передовая. Какой же ад здесь творился почти сто лет назад. А сейчас тишина. Но нужно лишь хорошо прислушатся, и ржание коней, стоны раненых, свист пуль и осколков. И огонь и смерть повсюду.
Множество касок, как в строю, лежат на лавке во дворе небольшого частного хозяйства в Курляндии. В каждой пулевые и осколочные отверстия. Изрешечёный металлом металл. Часто количество входных отверстий не соответствует выходным. Что стало с тем что было в этих касках?
Хозяин дал разрешение на раскопки за "десятку". Шестнадцать бойцов было найдено в небольшой яме сразу за его озером. Хуторянин лишь посмотрел, пожал плечами и отправился по своим делам - стояла страда. Его прошлая война не интересовала.
"Что вы ищете?" - иногда срашивают нас.
Время. Прикосновения к прошедшему. Один поисковик долго небывший в лесу сказал: "Мне срочно нужна свежая энергетика железа". Энергетический вампиризм? На этом железе реки крови.
Знакомый, довольно не плохо зарабатывающий бизнесмен любитель походить по пляжу: "Поиск монеток в песке на заре, когда море искрится утренними лучами, вот высочайшее наслаждение для меня. И конечно тишина". Он тоже ищет Вчерашний День.
Эхо прошедшего. Один знакомый астролог-искатель говорил: "Самые интересные находки на самой заре. Просто прислушайся к их голосам". Иногда они кричат, иногда шепчут, иногда рыдают. Слышать можно за многие километры.
Ты бросаешь всё, судорожно листаешь карты, и едешь навстречу Неизвестному. Шумит лес, негромко пищит металлодетектор и ты, уподобляясь шаману, пытаясь расшифровать непонятные звуки, оказываешся Там, далеко отсюда, от надоевших серых будней, нелюбимой работы, шумного города. Ты буквально переносишся через реку времён, оставаясь самим собой.
Вот старая дорога. Сколько прошагали, проскакали, проехали по ней. Сколько находок втоптано в её земляную колею.
Царский пятачок, довольно крупная монета, как она сюда попала? Не иначе безъизвестный солдатик сунул деньги в прохудившийся карман. Рядом шарики шрапнели, издалека видно. Немецкая пуговица с короной, нитки гнилые у них были под конец войны. Крупная пломба с орлом и годом "1914"...
Одиночный окоп с россыпью гильз от ППШ - здесь отстреливались до последнего. Котелок с надписью: "Краснодарский район. Деревня Шепетовка. Дом 16. Виля Панин." Как сложилась судьба Вили? Остался ли он жив после этого страшного боя? Вернулся ли домой, в свою деревню?
Лесная глушь. Похоже с войны не ступала здесь нога человека. Две немецкие каски, покрытые мхом лежат прямо на поверхности. Так, как их бросили шестьдесят лет назад. Что было дальше с их владельцами? Плен? Смерть?
Остатки самолёта разбросанные в радиусе ста метров. Приборная панель. Время бортовых часов навсегда застыло на семнадцать пятьдесят четыре. Это было их последнее сражение. Успели катапультироватся? Или тела их здесь, смешанные с песком и грязью.
Сколько событий связано с предметами из-под земли. Они прямо оттуда, из прошлого, их не касалась рука человеческая многие годы. Достаточно лишь взять их в руки чтобы почувствовать дыхание времени.
А машину времени не надо изобретать, она уже давно изобретена. И называется она - МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ.
Автор -no name.
Как то ездил в выходные домой, в Подмосковье, и пересекся с другом Серёгой, который владеет грузовым "Бычком" и подрабатывает грузовым извозом. Время от времени ему подкидывает заказы грузин Гога, герой пары заметок, написанных ранее, соответственно информацию об этом индивидууме я воле-неволей периодически получаю.
Если кто-то не читал ранее, Гога промышляет скупкой черного металла и разводит скотину. У него в подчинении находиться зондеркоманда из цыган, пылесосящая в округе все, что имеет свойства магнититься и ржаветь.
Серега сдуру рассказал грузинскому негоцианту о том, как при Союзе вывозил с территории завода Сельхозмаш контейнера с браком и отходами производства - кто тогда железо считал за ценность или дефицит? Контейнера вывозили на погрузчиках за территорию завода и закапывали в траншеях бульдозером. Гога понял, что это Клондайк, Эльдорадо!!!
- Сэрый, пашлы жэлэзо за завод копат!
Серега опешил - как же его искать -то, оно ж зарыто хрензнатькогда!
-А слюшай! Умена это есть..... Искатэль!
Дружбан кроме моей бывшей Аськи, да девайсов типа ИМП, знакомых по Советской армии, металлодетекторов больше не видел, но показанное Гогой ввергло его в смесь шока и истерического веселья.
Он описал это так:
-Сержик, это пипец! Представляешь - замусоленная деревянная палка, типа ручки от швабры, снизу примотан проволокой и и обклеенный разноцветной фольгой от пивных банок алюминевый обруч, четыре батарейки крона и китайские наушники! И эта хрень еще и работает!!! Когда обруч подносишь к металлу - в наушниках слышен треск, просто караул!
Гога с помощью своего мутанта все таки нашел два полутонных контейнера с железом и уговаривал Серегу "пойти их дернуть машиной". Серега вежливо отказался, про себя послав его подальше - Бычек все таки не танк.
Вот такая история
Автор -no name.
Вот уже много лет я занимаюсь таким хобби, как кладоискательство, поиск различной старины и свидетельств прошлого. Как-то незаметно для себя занялся исследованием исторической науки почти профессионально.
«Почти», потому что по образованию я все-таки не историк. Материала накопилось не на одну диссертацию — начал публиковать статьи, сводить воедино всю информацию, которую удалось накопить за годы. Я и с женой-то познакомился, когда пришел на кафедру Отечественной истории, чтобы оформить научное руководство. Она тоже работает над диссертацией и тоже по нашей «сибирской» тематике. Именно со своими изысканиями я и склонен связывать произошедший со мной случай. Последний год я как-то отошел от научных и поисковых дел, захлестнула работа, стройка дома. Металлоискатель покрылся слоем пыли, недописанную диссертацию открывал очень редко, а сил хватило всего на пару научных статеек.
В один погожий выходной, в сентябре, удалось вырваться за город на одно, так сказать, культовое место. Когда-то давно была на этом месте богатая ямщицкая деревня Мысовая, аккурат на старом сибирском тракте. Поселились первые жители здесь в незапамятные времена. Место это удивительной красоты и уюта. Сколько раз мне приходилось убеждаться в том, что умели наши прадеды выбирать место для житья. Жизнь деревеньки кипела на протяжении двух столетий. Помнят эти река и лес, как мчались по Великому тракту кибитки, помнят Радищева и Декабристов. Говорят, сам Антон Павлович Чехов отобедал у местного старосты и за чаркой водки жаловался на обе русские проблемы. Двадцатый век перевернул жизнь старой сибирской деревни. Стал не нужен людям Великий московский тракт, загремела железная дорога, помчались паровозы, полетели «ерапланы». Войны, Революции, исторические вихри довершили свое дело — нет больше на карте старинной деревеньки. В конце 1940-х покинул ее последний житель. Обмелела река, заросли травой огороды, оплыла старая трактовая насыпь. Только ямы от домов, бань и овин уныло смотрят в небо. Бродил я вокруг них и размышлял над всем этим, пытаясь одновременно сличить все окружающее меня с планом деревни, начертанном в Томской губернской чертежне, года 1823 месяца мая 20 дня. Вот где-то здесь некогда была почтовая станция и жил станционный смотритель, наверняка, какой-нибудь Самсон Вырин с дочкой Дуней. А вот возле того куста был когда-то мосток через ручей.
Жена моя в это время с подругой суетилась на другом берегу речки, у костра, готовя обед. Присел я отдохнуть на край одной большой западины от дома погреться на солнышке и сам не заметил, как задремал. Сном это состояние назвать трудно, скорее, какое-то забытье — снится мне что-то и в это же время я слышу все, что происходит вокруг. Пастух на противоположном берегу реки хлестнул кнутом и добавил что-то едкое в адрес совхозных коров, где-то в соседней деревне тарахтит мотоцикл, высоко-высоко гудит самолет. Все эти звуки доходят до моего сознания. В один прекрасный момент я смотрю на окружающую меня местность и не узнаю ее. Место то же, но вместо, гладко под газон выщипанной коровами поляны, вокруг меня заросшая бурьяном площадь. Среди этой травы стоят русские печи. Нет ни домов — ничего. Так и стоят под открытым небом. Подхожу к одной из них и откалываю кирпич, беру его в руки, ощущаю тяжесть и холод обожженной глины. На нем клеймо старинного завода и двуглавый орел. Мелькает мысль, что жене такое должно понравиться, начинаю откалывать остальные. Где-то клейма видны четко, где-то приходится соскребать кладочную глину. Складываю кирпичи в штабель. С четкими клеймами в одну сторону, остальные — в другую. Удивления никакого нет. Прикидываю, что хорошо бы подогнать машину и сложить их в багажник. В этот момент ощущаю на себе пристальный взгляд в спину, оборачиваюсь и вижу двух мужичков. Я хорошо разглядел и лица и одежду, но, хоть убейте, не запомнил. Помню только, что одеты были во что-то светлое, возможно, в льняные рубахи или сорочки — у одного на голове была шапчонка. Стоят они двое, сверлят меня взглядами – по-другому сказать не могу. И тут один другому говорит: «Это копатель, я их знаю. Тут один из таких мне ребро сломал и череп ногою раздавил». И все.
Проснулся я на краю впадины, огляделся — все по-прежнему. Выпас, машина на другом берегу, пастух, загоняющий стадо в соседнюю деревню. Страха не было. Но ощущение полного присутствия не покидает меня до сих пор. Как будто все случилось наяву. Хочу еще сказать, что ни я, ни мои знакомые коллеги-кладоискатели никогда не копали ни кладбищ ни останков.
Автор -no name.
Есть у меня один друг, назовём его Андрей, проживающий в сельской местности. И как многие из копарей не горожан, чаще всего он занимается поиском старины не особенно далеко от своего посёлка. Попутно и сбором чермета промышляет. Благо деревень и починков в тех местах некогда было превеликое множество, сейчас хорошо если с полтора десятка жилых наберётся.
Прошлой осенью он мне рассказывал об одной бабульке, у которой ему доводилось несколько раз оставлять мотоцикл. Жила она одиноко в маленькой деревне находящейся в десяти километрах от дома моего друга.
Сетовала бабушка, что за ерундовую помощь по огороду какой-то мужичонка, как понял мой друг, изрядно закладывающий за воротник, дерёт с неё бешеные деньги. Приезжает он весной и осенью из другой деревни и помогает за плату, разумеется, нескольким местным старикам в огородных делах.
В общем, пожалел мой друг бабульку и пообещал по весне вскопать в огороде всё, что потребуется. Тем более, по его словам, работы там было на час, полтора от силы. Много ли ей надо одной. Естественно ни о какой оплате и речи не шло. Предварительно прозвонить свой огород металлодетектором довольная старушка само собой разрешила.
И вот в апреле, как только дороги достаточно продуло для проезда мотоцикла с коляской, Андрей двинул на коп в те места и, помня о своём обещании, завернул к бабушке.
Вскапывать огород было ещё рановато, а вот поискать интересности в самый раз. Конечно, сначала он малость помог по хозяйству, где-то подколотил, что-то заменил, ну а потом здоровенный, на 3/4 не обрабатываемый участок был полностью в его распоряжении.
Мусора оказалось на удивление мало. Для огорода мало, это когда не по три сигнала на одну проводку катушки. Обычно деревенские жители высыпают в свои огороды золу из печи в качестве удобрения, ну а вместе с золой летят на землю гвозди и прочий мет. мусор. Зато не попадалось алко-дирхемов (водочных пробок) и совсем немного проволоки. Муж старушки умерший много лет назад был почти непьющим, так что каждый хороший сигнал «Проши» (Garrett AT PRO) означал находку.
Было много «советов», к сожалению, из них ранних и десятка не набралось. Империя представлена рядовыми медными монетами 19-20 вв. Правда, попал один пятачок Екатерины II, да пара копеек Павла I.
Андрей уже заканчивал обследование облюбованной части огорода, когда «Проша» в очередной раз «сказал» – копай, и на свет божий из многолетнего забвения явился знак.
193-й пехотный Свияжский полк. Был учреждён 25 апреля 1911 года. И состояние, в общем, не плохое. Утраты незначительные.
Бабушка ничего не могла сказать о том, откуда мог взяться такой знак в её земле, это собственно и не удивительно, учитывая, что муж привёл её в свой дом, только в 60-х годах.
Особого интереса она к находке не проявила и разрешила моему другу забрать знак себе, причём очень удивилась, когда он пообещал привезти ей целый рюкзак продуктов в следующий раз.
На этом всё и закончилось в тот день.
По просьбе Андрея знак теперь определяет и оценивает один наш общий знакомый. От себя могу сказать, что знак нечастый. Вот такая история, которая, кстати, будет иметь продолжение, так как предстоит вскапывание огорода с предварительным обследованием нетронутой части.
-
pioneer

- Старожил

- Сообщений: 777
- Стаж: 6 лет 6 месяцев
- Имя: Лёха
- Местонахождение: Свияжское воеводство
- Благодарил (а): 291 раз
- Поблагодарили: 1118 раз
Автор -no name.
В июне кажись 1992 года под Витебском на Вахте Памяти в районе Зароново.
По слухам на высотке прямо напротив лагеря было крупное захоронение наших бойцов. Все отряды хоть раз, но пробовали там искать. И все впустую. В один из дней надоело нам с друганом кормить комаров в лесу и мы с ним решили попробовать пощупать эту высотку. Начали в 9 утра. Но наш запал быстро угас, т.к. на высотке оказалось глинище настолько твердое, что лопата ни фига в него не втыкалась. Помучились мы с ним там до обеда и высунув языки от усталости и жары где-то в районе часа дня спустились в лагерь отобедать и отдохнуть. Нахававшись я выполз в тенек и закемарил у столба на импровизированной волейбольной площадке. Так сказать послеобеденный сон. Блин, сколько лет прошло, а сон этот перед глазами как сегодня приснился... Ну в общем заснул я и вижу во сне, что я взлетаю вверх метров на 400-500 над высоткой и кружусь над ней аки птица. И взгляд мой все время прикован к тому склону высоты, что выходит на лагерь. По нему весь народ ходил на высоту и обратно и естественно там никто не копал. И чуть в стороне от основных маршрутов движения по склону я вижу (во сне естественно) пятно травы чуть зеленейшей чем окружающий ландшафт. В этот момент мой друган будит меня и предлагает идти обратно в лес на нейтралку. Я ему пересказываю сон. Он скептически улыбается. А рядом была руководительница поискового отряда из Полоцка. Ей тогда уже было за 60 годков и у нее была фишка искать ямы палочками, как лозоходцы воду. Подслушала она мой рассказ про сон и говорит, что надо пойти и проверить, мол дело 15 минут. Короче, пошли мы на высоту опять. Так как во сне я видел только одно место, то к нему и пошли. Разошлись в разные стороны и начали искать траву потемнее. Минут 10 побродили и нашли место похожее на то, что я видел сверху. Бабулька расчехлила свои палочки и совершила пару проходов над этим местом. Палочки чего-то там показывали, вроде скрещивались. Делать нечего, подтвердить, что сон был вещим можно было только забив шурф. Где-то минут 45 мы долбили это глинище. Никаких признаков копаного грунта не было видно. Решили подолбить минут 10 и сворачиваться, т.к. никаких признаков ямы в раскопе не наблюдалось. Но все решилось раньше. Только прошли отметку 1,7 м из земли вылезли жгут и шина на ноге у одного бойца. В общем достали мы снизу 3 бойцов, а остальные пошли под стенку. Так как долбить эту глину сил больше не было, то решили договориться в ближайшем колхозе на трактор с ковшом, чтобы он нам слегка подсобил следующим днем. Переговоры прошли успешно и утром трактор был в нашем распоряжении. Решили копать яму с запасом и велели трактористу начать ковырять глину в метрах 2,5 от ямы, где нашли бойцов. Не успел он два раза махнуть своим совком, как с глубины 0,5 метра валом пошли наши бойцы. Мы были в шоке. Вчера долбили землю на глубину 1,7 м., а тут сегодня буквально в двух шагах нашли солдат практически сверху. И ведь, что интересно, бабушкины палки нифига там не скрещивались, а она и там совершала пробежку с ними. В общем вытащили мы с того склона 105 наших бойцов по зимним боям 43-44 г. Причем 99 лежали в одной яме, там, где бойцы пошли с полуметра, а 6 (все умершие от ран) лежали в той яме, что вынесли на глубину 1,7 м. Все бойцы были без медальонов и документов. Только у пары человек были гвардейские и комсомольские значки.
Автор -no name.
Есть и у меня одна история. Рассказал мне её хороший знакомый, он работает стоматологом. У него есть замечательное хобби: помимо того, что он занимается охотой, рыбалкой и путешествиями, он со своими единомышленниками любит искать клады. Благо, что в Новгородской области этого добра навалом. :)
Но рассказ не про него, а про одного из тех самых единомышленников. Звать его Артуром, повествование для простоты восприятия буду вести от первого лица.
«Дело было несколько лет назад, в апреле на севере Новгородской области. Отправился я в очередной поход за кладом, вооружившись копией карты нашей области 19 века, а также незаменимым в этих делах металлоискателем. Принцип прост: ищешь на карте соответствующее место (останки какой-нибудь старой усадьбы и т. п.), приезжаешь на место, удостоверяешься, что из твоих "коллег" там никого нет, и ходишь с металлоискателем, час, два, три, четыре... Успех переменный, но это уже другая история.
Встречаются среди нашей братии и так называемые "чёрные копатели". Они такие же, как и мы, но не гнушаются и могилы грабить, и церквушки древние осквернять своими кирками.
Так вот, приехал я на место один. Оставил свой уазик в посёлке, дальше пошёл пешком, до тех пор, пока болото плавно не переросло в сплошную воду (апрель всё-таки). Пришлось вернуться за надувной лодкой. С местным жителем дотащили моё добро (компактную палатку и лодку) до воды, дальше я с ним попрощался, подождал, пока автоматический насос закачает воздух в лодку, сел за весла и поплыл. В общей сложности добирался я до места часов 5, местами приходилось тащить лодку самому. Ближе к вечеру дополз-таки я до места, где должна находиться старая-старая деревушка. Устал неимоверно. По карте неподалеку располагалась церковь века эдак 18-го и, как полагается, кладбище при ней. Разумеется, от крестов и памятников там мало что осталось ввиду древности. Церковь – а точнее то, что от неё осталось (одни стены), – я отыскал без труда, там же было и кладбище. К моему великому сожалению, тут побывали до меня, в том числе те самые "кроты", которые грабят могилы. Об этом свидетельствовали треноги, сделанные из тонких стволов деревьев стоявшие над теми местами, где, судя по всему, были могилы. При помощи тех треног и лебёдок эти господа просто вырывали все содержимое могилы на предмет исследования золота и других ценностей. Надо сказать, что "кроты" осквернили и саму церковь, там были видны следы от кирок, ломов...
Решив, что начну поиски с утра пораньше (уже стемнело), я нашёл место посуше, разбил палатку, разжёг костер, поставил котелок с водой, закурил... Был довольно теплый вечер, дул лёгкий ветерок, лепота. )) Поужинав, я решил лечь спать. Среди ночи – если не ошибаюсь, было около 2 часов – я проснулся, вышел из палатки по зову естества, закурил... Тут моё внимание привлёк огонёк за кустами, чуть правее меня. Я повернулся, начал всматриваться в темноту, но ничего такого не увидел. Ну, думаю, спросонья показалось; затушил бычок, хотел уже повернуть к палатке, когда внезапно тот огонёк показался снова. На всякий случай я присел, поскольку был уверен, что не один я облюбовал это место. А "кроты" встречаются, мягко говоря, недружелюбные, и я уже пожалел, что оставил ружьё дома. Тем временем огонёк приближался. И вот уже я различаю очертания человека. Это была женщина. Нет, по мере приближения, судя по сгорбленной фигуре, было видно, что это какая-то старушка. Точно, это местная бабулька собирает какую-нить травку, пришла в голову мне спасительная мысль, но через секунду до меня дошло, что с той стороны, откуда она держит путь, СПЛОШНОЕ болото... Там никак не пройти! Я чувствую, что стремительно покрываюсь потом, а эта любительница ночных прогулок подходит всё ближе. Я уже вижу, что она несёт в руках, перед собой, лукошко, а в нём зажжённая свеча. И вот странность, пламя свечи освещает её руки, саму корзинку, в общем, всё, кроме её лица! К тому же, несмотря на ветер, пламя свечи горит ровно, будто находится в вакууме. Тут меня взяла такая дрожь. Меня буквально лихорадило! Инстинктивно я попятился назад, к кустам, насколько мог подальше от тропинки, но не тут-то было! Моя нога увязла в болоте, т. к. место было довольно узкое, я, по-моему, даже хрюкнул. И вот, проплывает (буквально проплывает) мимо остолбеневшего меня эта ночная, блин, фея. А я, не придумав ничего лучшего, выдавил из себя как можно бодрее: «ЗДРАСЬТЕ, а не подскажете ли...» (Наверное, мой голос, сочетающий в себе дрожь от страха и нелепую попытку показаться дружелюбным, кого-нибудь другого бы и рассмешил). Ничего она мне не подсказала :), даже не удостоила меня взглядом, лишь проплыла мимо и скрылась за кустом... Не знаю, сколько времени я таким макаром простоял, не в состоянии пошевелиться, но когда до меня дошло, что проплыло это ночное явление в сторону моей лодки, я подскочил и побежал к месту, где я пришвартовался. Лодка стояла на месте, моей ночной "собеседницы" не было. Я почему-то этому не удивился, во всяком случае, искать ЭТО мне не хотелось. Поскорее собрал палатку, залил водой без того затухший костёр и на всех веслах погрёб обратно к машине... Больше один ни в какие походы не хожу.
Надо добавить, что этот самый Артур до того случая был реалистом и материалистом до мозга костей. Его жена сказала, что всё, что с ним произошло, явилось результатом осквернения кладбища и церквушки.
Автор -no name.
Вот вам еще из жизни… лет 10 назад я жил в Калининграде, в районе под названием "остров", так вот, одно из любимых занятий калининградской молодежи - гробокопательство на старых немецких кладбищах, с целью обзаведения стильным немецким шмурдяком и драгметаллами (в основном в виде зубов). Есть такое кладбище и остов часовенки и на "острове"- тогда она было почти не разграбленным, так как какие-то умники в 50-х годах прорыли канальчик, из-за которого местность подтопило, появилось болото, и все основательно заросло всякой растительностью. А тут канальчик наконец-то замыло, и два года подряд было очень сухо- место стало проходимым. И вот одним августовским утром мой дружище по кличке Корнаж, потащил меня туда, соблазнив посулами невиданного хабара. И ведь не обманул, гад. За день усердного копа мы стали обладателями двух десятков золотых фикс, нескольких монет, золотого же кольца и пары сережек, плюс серебряного барахла общим весом 170 грамм. Когда стало темнеть, я засобирался домой, а Кар решил остаться, чтобы утром продолжить изыскания на местности. Когда я уходил, он все еще лопатил землю. На следующий день у меня была запланирована поездка на Голубые озера. А вот еще через день мне позвонила его мама и поинтересовалась, не знаю ли я, где находится её чадо. Это меня не насторожило, так как Кар любил заложить за воротник, и делал это регулярно. И только спустя 3 дня после того как я покинул место копа, я отправился туда снова, прихватив с собой еще одного приятеля- счастливого обладателя минака кустарного производства. Добравшись до места, я обнаружил то, что мне иногда еще снится... после того как я ушел, Кар умудрился наткнуться на место захоронения жителей Кёнигсберга погибших от бомбардировок союзников. Это был лютый слой костей, толщиной около полутора метров. А в пяти метрах от этой ямы- навес из полиэтилена в углу фундамента и труп Кара. Он сидел, забившись спиной в угол, глаза были открыты, а на лице была такая застывшая гримаса ужаса, что я увидев его лицо сам чуть не откинул копыта. Приятель тупо сел на жопу и стал икать. Сотовых тогда не было, так что, отойдя от столбняка, я пошел домой вызывать ментов. Пока они приехали, пока я довел их обратно, стало опять вечереть. И вот придя на место менты стали все обнюхивать, расспрашивать меня (так как я и вызвал и последний видел Кара), В общем, стемнело. И вдруг один чел, который был с ментам (вероятно стажер, он был чуть старше меня) подозвал старшего и сказал ему, показывая на труп Кара- а он точно мертв?? А то кажется он только что моргал! И, в этот момент лицо ТРУПА!!! Которое уже вроде бы разгладилось, стало опять искажаться в ужасе!!! Как они орали!!! Правда я тоже не отставал, стажер этот ломанулся с воплями, я за ним и еще один мусор… потом эксперт-криминалист, пытался объяснить мне из-за чего это произошло, но я его не слушал, потому что я не верю что лицо человека умершего 2 дня назад может взять и ожить, у него даже глаза на мгновение стали ЖИВЫЕ! Да в заключении о смерти было написано, что он умер от разрыва какого-то там клапана в сердце. О как.
Автор -no name.
Как давно я ждал этого дня! Планировать этот выход я начал еще за неделю. И вот, он наконец состоялся. Место моего открытия сезона деревня Н во Владимирской губернии, некогда богатой деревни с мельницей. Шли с другом пешком: я с рюкзаком, в котором мд, а мой верный спутник с сумкой, в которой была наша провизия и оружие (в тех местах можно часто встретить волков). Провизия наша состояла из:
Ролтона (4шт)
Два термоса (один с чаем, другой с кипятком)
Бутылка с водой
Сладости к чаю
А оружие было такое:
Походный нож
Небольшой ломик
Прошли мы по главной улице нашей деревни, свернули в поле и пошли. В полях местам стоит вода, но в наших резяках это был сущий пустяк. Дошли до места. Прошли некогда довольно большую речку, теперь ручеек, который появляется только весной. Остановились. Сделали привал. Я достал заранее подготовленный мною сверточек, в котором были современные монеты и немного совдепа, письмо к тому, кто найдет этот мой кладик. Теперь оставалось разобраться, где была деревня. В этом не было никакой проблемы, потому что было известно, что деревня стояла на холме. И этот холм как раз был перед нами. На поле было множество камней, кирпича и керамики. Только зашел в поле и.... Это полный пздц!!! Провалился в грязь чуть выше щиколотки!!! Ну думаю - открыл сезон, блин. Но было принято решение не отступать! Покопав шмурдяка, заметил, что мой друг уже обустроил очень качественный привал. Из большого булыжника он сделал стол, выложил из камней поменьше вокруг как пол, и из тех же камней сделал стулья!!! Вот это настоящий спутник! Я был очень рад, что у меня есть такой камрад, правда еще без собственного мд. Через минут 30 сигнал: откопал конину. Пока что еще была радость за находку, но килограммы грязи на сапогах, лопате и катушке брали свое. Решили отобедать. Но тут проблема: ролтоны собирались есть в сухомятку, а в сухомятку не комильфо!)) и тут друг придумал еще один выход из ситуации! Мы на пару выпили бутыль с водой, разломали ролтон и засыпали в бутылку, залили это дело кипятком, закрыли крышкой и встрясли. Потом взяли мой нож и разрезали бутылку пополам и разделили нашу лапшу также пополам) Сытно поев я решил продолжать. Мой друг немного походил рядом, изрядно замерз и начал бегать. Убежал он довольно далеко. И тут прямо около нашего привала сигнал 44. Достаю медный кружок. Еще радуюсь находке. Видимо раньше это была монета. Положил в карман. Один шаг и еще сигнал: 38. Копаю. Откопал. Сигнал в руке. Достаю монету: 20 копеек 1924 года, советский биллончик. Уже нет сил радоваться, только одна мысль в голове: ну не зря я пришел сюда! Пришел друг, я похвастался находками. Потом друг принес мне стеклянную бутылочку. Ну и завершением стала часть гармошки. Да! Сигналов на поле было море ( и 38, и 44, полно разных), но встала самая проблема! Земля оттаяла только на 10 см, а дальше я брал землю ломиком, и то сил хватило только на один раз. Так что летом я еще туда вернусь и докопаю всё, заложу шурфик.
Обратная дорога тоже была интересной. Мы нашли мост, прошли по нему и попали на дорогу. Понимали, что не потеряемся, у нас там негде теряться) Вышли к соседней от нашей деревне. Там брал начало ручеек, который протекает по середине нашей деревни. Решили идти вдоль него. И тут еще одна находка: нашли старый мост, он наполовину обвалился, из под земли торчало пару гнилых бревен.
Автор -no name.
Здравствуйте, вот решил поделиться с вами своей историей, предупреждаю, история из жизни, хотите верьте, хотите нет.
Я занимаюсь военно-исторической реконструкцией пару лет. Период реконструкции — Великая Отечественная Война. Поехали мы, значит, на реконструкцию обороны Запорожья, мероприятие с ночевкой, все как полагается. Наступил вечер, стало прохладно, ну я ночью не сплю на мероприятиях — сижу у костра, так и историй разных можно послушать и своими поделиться. Пока сидели и байки травили, закипел чайник, ну я и выпил 3 чашки горячего чая, а что, ночью прохладно — вот и чаем отогреваемся. Через некоторое время чай попросился наружу. Ну я встал и пошел в ближайший лесок (ну лесок это сильно сказано, десяток деревьев и кусты по грудь). Ну в общем сделал я свои «мокрые» дела и уже было собрался идти обратно, как слышу за спиной шорох. Ну я обернулся — вижу силуэт стоит, ну я вгляделся в темноту, глаза уже чуть отошли от костра, вижу — солдат, стоит с вещмешком, в каске, с винтовкой. Ну я думал это один из наших, решил подойти, спросить, с кем он уже воевать собрался идти. В это время в небе вышел месяц из-за облаков и осветил все тусклым светом. И тут я замечаю следующую картину: стоит этот солдат, за ним несколько тянут ещё одного, у солдата лицо какое-то странное, рассмотреть его я не смог, но мне запомнился один момент, на груди солдата виднелись пара дырок, их было плохо видно во тьме, но разглядеть их было можно. Я стоял и наблюдал эту картину, мне становилось жутко. Вдруг сзади послышался хруст веток, я быстро оглянулся — мой товарищ тоже идет справлять нужду, я повернулся обратно — никого. На следующий день, там выкопали кости солдат, предположительно четверых.
Автор -no name.
Решили как-то с товарищами съездить покопать эхо войны.
Я в местах тех в первый раз, да и с комрадами познакомились только недавно. Приехали в 4 часа утра, разложились, парни решили выспаться немного, ну а у меня после тяжелой поездки по бездорожью мучила бессонница. В общем, сижу у костра, чаи гоняю, жду рассвета. Сижу и жутко мне все сильнее становится, шаги слышу, в спину будто кто-то смотрит.. жутко. Только рассвело, я собрался и сразу же двинул пробивать немецкие позиции.
Вечерком, уже вернувшись с комрадами, в часов так 12 я снова начал чувствовать взгляд в спину, обернулся - никого.
Сидели так до часу ночи, тут снова что-то сзади зашумело, и, обернувшись, увидел два зеленых глаза!!! Причем кроме глаз вокруг нем ничего, листья колышутся, шумят, а самого тела просто НЕТ! Рука сама потянулась к немецкому штык - ножу, а второй рукой я колошматил моего соседа.
- Коль, смотри, там глаза - шепчу я.
- Ну и че? Они тут постоянно, покошмарят да и свалят. Ты новенький, нас то ведь знают уже, а на тебя вот поглазеть хотят - спокойно ответил товарищ.
Меня просто всего колотило от таких "гляделок", но "глаза" вскоре действительно побрели по своим делам.
- Че это за хрень была ?! - чуть не с криком спрашивал я товарищей
- Да ты не бойся, они мирные, трогать не будут.
В ту ночь я так и не заснул... вскакивал от любого шороха.
Однажды приехал на то же место, все вроде было мирно, ночью все же кто-то возле лагеря шлялся, но глаз я в тот раз уже не видел. Зато однажды ночью товарищ разбудил:
- Идем, там над лесом фигня летит!
- Ты что, перепил что ли?
- Та выйди ты!
И действительно, над лесом происходило что-то необъяснимое, где-то в самом центре леса по небу шарил неестественно мощный луч прожектора! Учитывая, что в тех местах труднопроходимые болота, да и ближайшее селение в десятках километров... Бессознательно вспомнились кинохроники военных времен, когда прожекторы воздушной обороны шарили по небу в поисках вражеских бомбардировщиков. Впечатляющая картина!
Автор -no name.
Хочу рассказать вам о своем первом копе с Теркой 705.
Место было выбрано хаотично. Один раз на подъезде к даче увидели, что трое мужиков с мд прочесывают поле. Ну я и решил туда ехать. Сели с отцом на велосипеды и погнали. Приехали, я расчехлился и пошел бродить по полю. Недалеко от этого места располагается птицеферма. У каждой курицы на лапке есть алюминиевая бирка. Это я к чему? Да к тому, что лет 15 назад туда привезли с этой самой птицеферму земли, где этих бирок было настолько много. Задолбался я их копать и начал отклоняться к ручейку. Иду-иду. Сигнал. 44-46, как сейчас помню. Был уже омрачнен этим копом. Провожу над катушкой - о! сигнал в руке. Начинаю разламывать комок дальше и о Боже!!!! монета! Почистил ее аккуратно и вижу 1 копейка Павел I 1800 года. Рад был неимоверно. Позвал папу. Походил вокруг и вытянул пряжку, большую, конина. Пришлось уезжать, потому что день подходил к концу. На следующий день было принято решение ехать еще раз! Сразу напавился к тому же месту и вытянул еще монету, непонятка какая-то. Только орел проглядывается. И рядом еще сигнал. Ну тут сразу видно: Денга, да еще и перечекан с Петровской копейки, правда какалик, но все же! Опять сигнал. Копаю, пропадает. Ну думаю: ложняк.
Начинаю закапывать ямку и тут вижу что-то ржавое лежит. Поднял - ключ, видно, старинный. Ну стало ясно, что с глубины мд принял его за цветняк, а как выкопал -он его не увидел, так как был включен дискриминатор. На этом поиски и закончились. На третий день решили ехать на другой берег ручейка. Там поднял одну конинку. Начался дождь (терка нормально работала) и потом прекратился.
Кстати, проезжали мимо блюстители порядка, но тогда не тронули. Остановились, посмотрели и уехали. Теперь, в связи с законом, думаю надо подальше немного от дороги то уходить.
В июне кажись 1992 года под Витебском на Вахте Памяти в районе Зароново.
По слухам на высотке прямо напротив лагеря было крупное захоронение наших бойцов. Все отряды хоть раз, но пробовали там искать. И все впустую. В один из дней надоело нам с друганом кормить комаров в лесу и мы с ним решили попробовать пощупать эту высотку. Начали в 9 утра. Но наш запал быстро угас, т.к. на высотке оказалось глинище настолько твердое, что лопата ни фига в него не втыкалась. Помучились мы с ним там до обеда и высунув языки от усталости и жары где-то в районе часа дня спустились в лагерь отобедать и отдохнуть. Нахававшись я выполз в тенек и закемарил у столба на импровизированной волейбольной площадке. Так сказать послеобеденный сон. Блин, сколько лет прошло, а сон этот перед глазами как сегодня приснился... Ну в общем заснул я и вижу во сне, что я взлетаю вверх метров на 400-500 над высоткой и кружусь над ней аки птица. И взгляд мой все время прикован к тому склону высоты, что выходит на лагерь. По нему весь народ ходил на высоту и обратно и естественно там никто не копал. И чуть в стороне от основных маршрутов движения по склону я вижу (во сне естественно) пятно травы чуть зеленейшей чем окружающий ландшафт. В этот момент мой друган будит меня и предлагает идти обратно в лес на нейтралку. Я ему пересказываю сон. Он скептически улыбается. А рядом была руководительница поискового отряда из Полоцка. Ей тогда уже было за 60 годков и у нее была фишка искать ямы палочками, как лозоходцы воду. Подслушала она мой рассказ про сон и говорит, что надо пойти и проверить, мол дело 15 минут. Короче, пошли мы на высоту опять. Так как во сне я видел только одно место, то к нему и пошли. Разошлись в разные стороны и начали искать траву потемнее. Минут 10 побродили и нашли место похожее на то, что я видел сверху. Бабулька расчехлила свои палочки и совершила пару проходов над этим местом. Палочки чего-то там показывали, вроде скрещивались. Делать нечего, подтвердить, что сон был вещим можно было только забив шурф. Где-то минут 45 мы долбили это глинище. Никаких признаков копаного грунта не было видно. Решили подолбить минут 10 и сворачиваться, т.к. никаких признаков ямы в раскопе не наблюдалось. Но все решилось раньше. Только прошли отметку 1,7 м из земли вылезли жгут и шина на ноге у одного бойца. В общем достали мы снизу 3 бойцов, а остальные пошли под стенку. Так как долбить эту глину сил больше не было, то решили договориться в ближайшем колхозе на трактор с ковшом, чтобы он нам слегка подсобил следующим днем. Переговоры прошли успешно и утром трактор был в нашем распоряжении. Решили копать яму с запасом и велели трактористу начать ковырять глину в метрах 2,5 от ямы, где нашли бойцов. Не успел он два раза махнуть своим совком, как с глубины 0,5 метра валом пошли наши бойцы. Мы были в шоке. Вчера долбили землю на глубину 1,7 м., а тут сегодня буквально в двух шагах нашли солдат практически сверху. И ведь, что интересно, бабушкины палки нифига там не скрещивались, а она и там совершала пробежку с ними. В общем вытащили мы с того склона 105 наших бойцов по зимним боям 43-44 г. Причем 99 лежали в одной яме, там, где бойцы пошли с полуметра, а 6 (все умершие от ран) лежали в той яме, что вынесли на глубину 1,7 м. Все бойцы были без медальонов и документов. Только у пары человек были гвардейские и комсомольские значки.
Автор -no name.
Есть и у меня одна история. Рассказал мне её хороший знакомый, он работает стоматологом. У него есть замечательное хобби: помимо того, что он занимается охотой, рыбалкой и путешествиями, он со своими единомышленниками любит искать клады. Благо, что в Новгородской области этого добра навалом. :)
Но рассказ не про него, а про одного из тех самых единомышленников. Звать его Артуром, повествование для простоты восприятия буду вести от первого лица.
«Дело было несколько лет назад, в апреле на севере Новгородской области. Отправился я в очередной поход за кладом, вооружившись копией карты нашей области 19 века, а также незаменимым в этих делах металлоискателем. Принцип прост: ищешь на карте соответствующее место (останки какой-нибудь старой усадьбы и т. п.), приезжаешь на место, удостоверяешься, что из твоих "коллег" там никого нет, и ходишь с металлоискателем, час, два, три, четыре... Успех переменный, но это уже другая история.
Встречаются среди нашей братии и так называемые "чёрные копатели". Они такие же, как и мы, но не гнушаются и могилы грабить, и церквушки древние осквернять своими кирками.
Так вот, приехал я на место один. Оставил свой уазик в посёлке, дальше пошёл пешком, до тех пор, пока болото плавно не переросло в сплошную воду (апрель всё-таки). Пришлось вернуться за надувной лодкой. С местным жителем дотащили моё добро (компактную палатку и лодку) до воды, дальше я с ним попрощался, подождал, пока автоматический насос закачает воздух в лодку, сел за весла и поплыл. В общей сложности добирался я до места часов 5, местами приходилось тащить лодку самому. Ближе к вечеру дополз-таки я до места, где должна находиться старая-старая деревушка. Устал неимоверно. По карте неподалеку располагалась церковь века эдак 18-го и, как полагается, кладбище при ней. Разумеется, от крестов и памятников там мало что осталось ввиду древности. Церковь – а точнее то, что от неё осталось (одни стены), – я отыскал без труда, там же было и кладбище. К моему великому сожалению, тут побывали до меня, в том числе те самые "кроты", которые грабят могилы. Об этом свидетельствовали треноги, сделанные из тонких стволов деревьев стоявшие над теми местами, где, судя по всему, были могилы. При помощи тех треног и лебёдок эти господа просто вырывали все содержимое могилы на предмет исследования золота и других ценностей. Надо сказать, что "кроты" осквернили и саму церковь, там были видны следы от кирок, ломов...
Решив, что начну поиски с утра пораньше (уже стемнело), я нашёл место посуше, разбил палатку, разжёг костер, поставил котелок с водой, закурил... Был довольно теплый вечер, дул лёгкий ветерок, лепота. )) Поужинав, я решил лечь спать. Среди ночи – если не ошибаюсь, было около 2 часов – я проснулся, вышел из палатки по зову естества, закурил... Тут моё внимание привлёк огонёк за кустами, чуть правее меня. Я повернулся, начал всматриваться в темноту, но ничего такого не увидел. Ну, думаю, спросонья показалось; затушил бычок, хотел уже повернуть к палатке, когда внезапно тот огонёк показался снова. На всякий случай я присел, поскольку был уверен, что не один я облюбовал это место. А "кроты" встречаются, мягко говоря, недружелюбные, и я уже пожалел, что оставил ружьё дома. Тем временем огонёк приближался. И вот уже я различаю очертания человека. Это была женщина. Нет, по мере приближения, судя по сгорбленной фигуре, было видно, что это какая-то старушка. Точно, это местная бабулька собирает какую-нить травку, пришла в голову мне спасительная мысль, но через секунду до меня дошло, что с той стороны, откуда она держит путь, СПЛОШНОЕ болото... Там никак не пройти! Я чувствую, что стремительно покрываюсь потом, а эта любительница ночных прогулок подходит всё ближе. Я уже вижу, что она несёт в руках, перед собой, лукошко, а в нём зажжённая свеча. И вот странность, пламя свечи освещает её руки, саму корзинку, в общем, всё, кроме её лица! К тому же, несмотря на ветер, пламя свечи горит ровно, будто находится в вакууме. Тут меня взяла такая дрожь. Меня буквально лихорадило! Инстинктивно я попятился назад, к кустам, насколько мог подальше от тропинки, но не тут-то было! Моя нога увязла в болоте, т. к. место было довольно узкое, я, по-моему, даже хрюкнул. И вот, проплывает (буквально проплывает) мимо остолбеневшего меня эта ночная, блин, фея. А я, не придумав ничего лучшего, выдавил из себя как можно бодрее: «ЗДРАСЬТЕ, а не подскажете ли...» (Наверное, мой голос, сочетающий в себе дрожь от страха и нелепую попытку показаться дружелюбным, кого-нибудь другого бы и рассмешил). Ничего она мне не подсказала :), даже не удостоила меня взглядом, лишь проплыла мимо и скрылась за кустом... Не знаю, сколько времени я таким макаром простоял, не в состоянии пошевелиться, но когда до меня дошло, что проплыло это ночное явление в сторону моей лодки, я подскочил и побежал к месту, где я пришвартовался. Лодка стояла на месте, моей ночной "собеседницы" не было. Я почему-то этому не удивился, во всяком случае, искать ЭТО мне не хотелось. Поскорее собрал палатку, залил водой без того затухший костёр и на всех веслах погрёб обратно к машине... Больше один ни в какие походы не хожу.
Надо добавить, что этот самый Артур до того случая был реалистом и материалистом до мозга костей. Его жена сказала, что всё, что с ним произошло, явилось результатом осквернения кладбища и церквушки.
Автор -no name.
Вот вам еще из жизни… лет 10 назад я жил в Калининграде, в районе под названием "остров", так вот, одно из любимых занятий калининградской молодежи - гробокопательство на старых немецких кладбищах, с целью обзаведения стильным немецким шмурдяком и драгметаллами (в основном в виде зубов). Есть такое кладбище и остов часовенки и на "острове"- тогда она было почти не разграбленным, так как какие-то умники в 50-х годах прорыли канальчик, из-за которого местность подтопило, появилось болото, и все основательно заросло всякой растительностью. А тут канальчик наконец-то замыло, и два года подряд было очень сухо- место стало проходимым. И вот одним августовским утром мой дружище по кличке Корнаж, потащил меня туда, соблазнив посулами невиданного хабара. И ведь не обманул, гад. За день усердного копа мы стали обладателями двух десятков золотых фикс, нескольких монет, золотого же кольца и пары сережек, плюс серебряного барахла общим весом 170 грамм. Когда стало темнеть, я засобирался домой, а Кар решил остаться, чтобы утром продолжить изыскания на местности. Когда я уходил, он все еще лопатил землю. На следующий день у меня была запланирована поездка на Голубые озера. А вот еще через день мне позвонила его мама и поинтересовалась, не знаю ли я, где находится её чадо. Это меня не насторожило, так как Кар любил заложить за воротник, и делал это регулярно. И только спустя 3 дня после того как я покинул место копа, я отправился туда снова, прихватив с собой еще одного приятеля- счастливого обладателя минака кустарного производства. Добравшись до места, я обнаружил то, что мне иногда еще снится... после того как я ушел, Кар умудрился наткнуться на место захоронения жителей Кёнигсберга погибших от бомбардировок союзников. Это был лютый слой костей, толщиной около полутора метров. А в пяти метрах от этой ямы- навес из полиэтилена в углу фундамента и труп Кара. Он сидел, забившись спиной в угол, глаза были открыты, а на лице была такая застывшая гримаса ужаса, что я увидев его лицо сам чуть не откинул копыта. Приятель тупо сел на жопу и стал икать. Сотовых тогда не было, так что, отойдя от столбняка, я пошел домой вызывать ментов. Пока они приехали, пока я довел их обратно, стало опять вечереть. И вот придя на место менты стали все обнюхивать, расспрашивать меня (так как я и вызвал и последний видел Кара), В общем, стемнело. И вдруг один чел, который был с ментам (вероятно стажер, он был чуть старше меня) подозвал старшего и сказал ему, показывая на труп Кара- а он точно мертв?? А то кажется он только что моргал! И, в этот момент лицо ТРУПА!!! Которое уже вроде бы разгладилось, стало опять искажаться в ужасе!!! Как они орали!!! Правда я тоже не отставал, стажер этот ломанулся с воплями, я за ним и еще один мусор… потом эксперт-криминалист, пытался объяснить мне из-за чего это произошло, но я его не слушал, потому что я не верю что лицо человека умершего 2 дня назад может взять и ожить, у него даже глаза на мгновение стали ЖИВЫЕ! Да в заключении о смерти было написано, что он умер от разрыва какого-то там клапана в сердце. О как.
Автор -no name.
Как давно я ждал этого дня! Планировать этот выход я начал еще за неделю. И вот, он наконец состоялся. Место моего открытия сезона деревня Н во Владимирской губернии, некогда богатой деревни с мельницей. Шли с другом пешком: я с рюкзаком, в котором мд, а мой верный спутник с сумкой, в которой была наша провизия и оружие (в тех местах можно часто встретить волков). Провизия наша состояла из:
Ролтона (4шт)
Два термоса (один с чаем, другой с кипятком)
Бутылка с водой
Сладости к чаю
А оружие было такое:
Походный нож
Небольшой ломик
Прошли мы по главной улице нашей деревни, свернули в поле и пошли. В полях местам стоит вода, но в наших резяках это был сущий пустяк. Дошли до места. Прошли некогда довольно большую речку, теперь ручеек, который появляется только весной. Остановились. Сделали привал. Я достал заранее подготовленный мною сверточек, в котором были современные монеты и немного совдепа, письмо к тому, кто найдет этот мой кладик. Теперь оставалось разобраться, где была деревня. В этом не было никакой проблемы, потому что было известно, что деревня стояла на холме. И этот холм как раз был перед нами. На поле было множество камней, кирпича и керамики. Только зашел в поле и.... Это полный пздц!!! Провалился в грязь чуть выше щиколотки!!! Ну думаю - открыл сезон, блин. Но было принято решение не отступать! Покопав шмурдяка, заметил, что мой друг уже обустроил очень качественный привал. Из большого булыжника он сделал стол, выложил из камней поменьше вокруг как пол, и из тех же камней сделал стулья!!! Вот это настоящий спутник! Я был очень рад, что у меня есть такой камрад, правда еще без собственного мд. Через минут 30 сигнал: откопал конину. Пока что еще была радость за находку, но килограммы грязи на сапогах, лопате и катушке брали свое. Решили отобедать. Но тут проблема: ролтоны собирались есть в сухомятку, а в сухомятку не комильфо!)) и тут друг придумал еще один выход из ситуации! Мы на пару выпили бутыль с водой, разломали ролтон и засыпали в бутылку, залили это дело кипятком, закрыли крышкой и встрясли. Потом взяли мой нож и разрезали бутылку пополам и разделили нашу лапшу также пополам) Сытно поев я решил продолжать. Мой друг немного походил рядом, изрядно замерз и начал бегать. Убежал он довольно далеко. И тут прямо около нашего привала сигнал 44. Достаю медный кружок. Еще радуюсь находке. Видимо раньше это была монета. Положил в карман. Один шаг и еще сигнал: 38. Копаю. Откопал. Сигнал в руке. Достаю монету: 20 копеек 1924 года, советский биллончик. Уже нет сил радоваться, только одна мысль в голове: ну не зря я пришел сюда! Пришел друг, я похвастался находками. Потом друг принес мне стеклянную бутылочку. Ну и завершением стала часть гармошки. Да! Сигналов на поле было море ( и 38, и 44, полно разных), но встала самая проблема! Земля оттаяла только на 10 см, а дальше я брал землю ломиком, и то сил хватило только на один раз. Так что летом я еще туда вернусь и докопаю всё, заложу шурфик.
Обратная дорога тоже была интересной. Мы нашли мост, прошли по нему и попали на дорогу. Понимали, что не потеряемся, у нас там негде теряться) Вышли к соседней от нашей деревне. Там брал начало ручеек, который протекает по середине нашей деревни. Решили идти вдоль него. И тут еще одна находка: нашли старый мост, он наполовину обвалился, из под земли торчало пару гнилых бревен.
Автор -no name.
Здравствуйте, вот решил поделиться с вами своей историей, предупреждаю, история из жизни, хотите верьте, хотите нет.
Я занимаюсь военно-исторической реконструкцией пару лет. Период реконструкции — Великая Отечественная Война. Поехали мы, значит, на реконструкцию обороны Запорожья, мероприятие с ночевкой, все как полагается. Наступил вечер, стало прохладно, ну я ночью не сплю на мероприятиях — сижу у костра, так и историй разных можно послушать и своими поделиться. Пока сидели и байки травили, закипел чайник, ну я и выпил 3 чашки горячего чая, а что, ночью прохладно — вот и чаем отогреваемся. Через некоторое время чай попросился наружу. Ну я встал и пошел в ближайший лесок (ну лесок это сильно сказано, десяток деревьев и кусты по грудь). Ну в общем сделал я свои «мокрые» дела и уже было собрался идти обратно, как слышу за спиной шорох. Ну я обернулся — вижу силуэт стоит, ну я вгляделся в темноту, глаза уже чуть отошли от костра, вижу — солдат, стоит с вещмешком, в каске, с винтовкой. Ну я думал это один из наших, решил подойти, спросить, с кем он уже воевать собрался идти. В это время в небе вышел месяц из-за облаков и осветил все тусклым светом. И тут я замечаю следующую картину: стоит этот солдат, за ним несколько тянут ещё одного, у солдата лицо какое-то странное, рассмотреть его я не смог, но мне запомнился один момент, на груди солдата виднелись пара дырок, их было плохо видно во тьме, но разглядеть их было можно. Я стоял и наблюдал эту картину, мне становилось жутко. Вдруг сзади послышался хруст веток, я быстро оглянулся — мой товарищ тоже идет справлять нужду, я повернулся обратно — никого. На следующий день, там выкопали кости солдат, предположительно четверых.
Автор -no name.
Решили как-то с товарищами съездить покопать эхо войны.
Я в местах тех в первый раз, да и с комрадами познакомились только недавно. Приехали в 4 часа утра, разложились, парни решили выспаться немного, ну а у меня после тяжелой поездки по бездорожью мучила бессонница. В общем, сижу у костра, чаи гоняю, жду рассвета. Сижу и жутко мне все сильнее становится, шаги слышу, в спину будто кто-то смотрит.. жутко. Только рассвело, я собрался и сразу же двинул пробивать немецкие позиции.
Вечерком, уже вернувшись с комрадами, в часов так 12 я снова начал чувствовать взгляд в спину, обернулся - никого.
Сидели так до часу ночи, тут снова что-то сзади зашумело, и, обернувшись, увидел два зеленых глаза!!! Причем кроме глаз вокруг нем ничего, листья колышутся, шумят, а самого тела просто НЕТ! Рука сама потянулась к немецкому штык - ножу, а второй рукой я колошматил моего соседа.
- Коль, смотри, там глаза - шепчу я.
- Ну и че? Они тут постоянно, покошмарят да и свалят. Ты новенький, нас то ведь знают уже, а на тебя вот поглазеть хотят - спокойно ответил товарищ.
Меня просто всего колотило от таких "гляделок", но "глаза" вскоре действительно побрели по своим делам.
- Че это за хрень была ?! - чуть не с криком спрашивал я товарищей
- Да ты не бойся, они мирные, трогать не будут.
В ту ночь я так и не заснул... вскакивал от любого шороха.
Однажды приехал на то же место, все вроде было мирно, ночью все же кто-то возле лагеря шлялся, но глаз я в тот раз уже не видел. Зато однажды ночью товарищ разбудил:
- Идем, там над лесом фигня летит!
- Ты что, перепил что ли?
- Та выйди ты!
И действительно, над лесом происходило что-то необъяснимое, где-то в самом центре леса по небу шарил неестественно мощный луч прожектора! Учитывая, что в тех местах труднопроходимые болота, да и ближайшее селение в десятках километров... Бессознательно вспомнились кинохроники военных времен, когда прожекторы воздушной обороны шарили по небу в поисках вражеских бомбардировщиков. Впечатляющая картина!
Автор -no name.
Хочу рассказать вам о своем первом копе с Теркой 705.
Место было выбрано хаотично. Один раз на подъезде к даче увидели, что трое мужиков с мд прочесывают поле. Ну я и решил туда ехать. Сели с отцом на велосипеды и погнали. Приехали, я расчехлился и пошел бродить по полю. Недалеко от этого места располагается птицеферма. У каждой курицы на лапке есть алюминиевая бирка. Это я к чему? Да к тому, что лет 15 назад туда привезли с этой самой птицеферму земли, где этих бирок было настолько много. Задолбался я их копать и начал отклоняться к ручейку. Иду-иду. Сигнал. 44-46, как сейчас помню. Был уже омрачнен этим копом. Провожу над катушкой - о! сигнал в руке. Начинаю разламывать комок дальше и о Боже!!!! монета! Почистил ее аккуратно и вижу 1 копейка Павел I 1800 года. Рад был неимоверно. Позвал папу. Походил вокруг и вытянул пряжку, большую, конина. Пришлось уезжать, потому что день подходил к концу. На следующий день было принято решение ехать еще раз! Сразу напавился к тому же месту и вытянул еще монету, непонятка какая-то. Только орел проглядывается. И рядом еще сигнал. Ну тут сразу видно: Денга, да еще и перечекан с Петровской копейки, правда какалик, но все же! Опять сигнал. Копаю, пропадает. Ну думаю: ложняк.
Начинаю закапывать ямку и тут вижу что-то ржавое лежит. Поднял - ключ, видно, старинный. Ну стало ясно, что с глубины мд принял его за цветняк, а как выкопал -он его не увидел, так как был включен дискриминатор. На этом поиски и закончились. На третий день решили ехать на другой берег ручейка. Там поднял одну конинку. Начался дождь (терка нормально работала) и потом прекратился.
Кстати, проезжали мимо блюстители порядка, но тогда не тронули. Остановились, посмотрели и уехали. Теперь, в связи с законом, думаю надо подальше немного от дороги то уходить.
-
pioneer

- Старожил

- Сообщений: 777
- Стаж: 6 лет 6 месяцев
- Имя: Лёха
- Местонахождение: Свияжское воеводство
- Благодарил (а): 291 раз
- Поблагодарили: 1118 раз
Автор -no name.
Лет пять тому назад, сидя долгими зимними вечерами над старыми картами и Э.П. (экономические примечания) мне удалось вычислить одну любопытную деревушку. На картах 19 века, а тем более на картах Ген. штаба она уже не значилась. Тема, безусловно, была интересна потому, как только сошёл снег и соответственно начался копательский сезон, я без промедления отправился на разведку.
По прибытии на место, увидел небольшую возвышенность с тонкой, короткой стернёй оставшейся от скошенной в прошлом году травы. По краю возвышенности тянулся невысокий, какой-то не вписывающийся в окружающий ландшафт бугор, поросший не старым леском. Мечта, а не место!
Находясь в предвкушении интересных находок без промедления расчехлился, собрал металлодетектор и приступил к поискам. Через пару часов блужданий по полю при почти полном отсутствии сигналов у меня начали закрадываться сомнения в точности выхода на позицию. Несколько пробок от бутылок, мелкая советская монетка 80-х годов и что-то от сельхозтехники, это весь результат. Никакого ржавого железа, не говоря уж о монетах, нательных крестиках или каких либо других интересностях. Полный ноль.
Потратив ещё не менее двух часов и всё так же, не зацепив ни одного полезного сигнала, уже не знал, что и думать, так как за это время была разведана достаточно обширная территория. И даже если бы я несколько промахнулся с местом расположения деревни, то всё равно за четыре часа поисков, а может и больше, вышел бы куда нужно. Таковы были ландшафтные особенности, ну никак там не ошибиться на серьёзное расстояние. Огромный овраг и малая речка остались на своём месте, правда речка за минувшие столетия превратилась почти в ручей. А так как деревня находилась между ними, то и промахнуться я мог метров на 200 максимум, более просто некуда.
К своему стыду должен признать, особенно напрягаться и задумываться в чём проблема я не стал. Ну, нет, так нет. Перебираюсь на другое место. Благо таковое имелось неподалёку. Да, были времена, коллег-конкурентов в области не так что бы уж очень много, а не копанных, «вкусных» мест полным полно.
В общем, перебрался я на другую «поляну», хорошо так походил, не в пустую прямо скажем. Отбыл домой в прекрасном расположении духа и без всякой занозы в мозге по поводу не найденной деревни, да и со временем забылась эта маленькая загвоздочка с неудавшейся разведкой.
Шло время, пролетело несколько лет, накопился ещё некоторый поисковый опыт. И вот как-то в прошлом году оказались мы с приятелями в весьма живописных местах. Глубоченный овраг, малая речка, превратившаяся в ручеёк, небольшая возвышенность между ними и никаких сигналов, даже мет. мусора практически нет. В точности выхода на точку мы были уверены, и я сразу обратил внимание на характерные бугры заросшие лесом по краю возвышенности. Всё объяснялось просто, деревня была сдвинута бульдозерами или какой другой тяжёлой техникой и вся культурка (следы жизнедеятельности человека) находились в этих самых поросших лесом буграх. Попробовали заложить пару разведочных шурфов, так и есть. Основательно шурфиться тогда не стали, отложили, что называется – на потом. Вот только меня не покидало чувство дежавю. Присутствовало полное ощущение, что я уже бывал тут, чего быть, разумеется, не могло.
Помучив свою память какое-то время, мне всё-таки удалось вспомнить ту давнюю историю с не найденной деревней. Ситуация один в один, за исключением одного, там шурфить стоило. Но сезон 2012 итак выдался достаточно насыщенным, и я отложил посещение деревни на неопределённый срок. И вот, в начале лета 2013 года пришло время посетить это занимательное местечко.
До места добрался быстро, благо современные средства навигации всегда с собой, да и без них не заплутал бы, не так уж много времени прошло с тех пор, когда я был тут впервые. На поле ничего не изменилось, правда, появились следы деятельности коллег по окрайкам, но были они старые, чуть заметные. Бугры, которые и являлись целью моего визита, оказались не тронуты. Да и мало кому захочется плотно заниматься землекопными работами в таком объёме, особенно если отсутствует информация о том, ради чего это делать. Видимо у тех, кто здесь успел побывать, такой информации не было или лень матушка одолела, что собственно и не удивительно. Я же владел достаточной информацией, что бы рассчитывать уйти не пустым. Одно было плохо, ехать пришлось одному, так уж сложилось. Но ничего, как говорится – попытка, не пытка.
Попив чайку, расчехлился и приступил к поискам, по верху сигналов было то много, то отсутствовали совсем. К сожалению хотя бы чего-то достойного внимания не попадалось. Не слишком удобно было пробираться по заросшим леском и кустарником буграм прозванивая их металлодетектором и довольно быстро мне это наскучило. Тем более что так и не попало ни одной завалящей монетки.
Решил не тратить время понапрасну и приступить к шурфлению. Самое неприятное, это то, что при данном раскладе просто невозможно строить какие-то предположения о том, где могут быть сконцентрированы цели.
Повезло мне довольно быстро, порадовала полтина 1817 года. Вообще-то я рассчитывал на что-то постарше, но и эта находка весьма и весьма не частая, жаль, что задета при сравнивании деревни или ещё раньше. Настроение заметно поднялось, я начал копать с утроенной энергией.
Активная работа с перекурами продолжалась, изредка попадались рядовые монетки, что конечно добавляло энтузиазма только ведь как обычно, хотелось большего.
Но вот пришло время обеда, да и подустал изрядно честно сказать, перекусить расположился рядом со своим очень даже внушительного вида шурфом. Я уже дожевал последний бутерброд и собирался налить из термоса очередную кружку чая, когда услышал урчание двигателя и увидел пробирающийся по краю поля в мою сторону УАЗ. Коллеги? Колхозники?
Вообще-то меня особенно не напрягают подобные встречи, вот только разрытый шурф как-то смущал. Мало ли что...
Тем временем машина подъехала ко мне почти вплотную, из неё вышла дама средних лет, а следом за ней и шофёр УАЗа. С суровым любопытством она окинула взглядом дело рук моих, здоровенный шурф, меаллодетектор лежащий около него и наконец-то сосредоточила своё внимание на моей скромной персоне. Я естественно поздоровался со всем возможным дружелюбием. Дама, всё так же сурово кивнула в ответ, в это время шофёр с интересом разглядывал шурф, обходя его по периметру. И состоялась беседа.
Не буду приводить её во всех подробностях, скажу только, мадам оказалась местным агрономом и приехала на это поле по каким-то своим делам. Никаких определённых претензий к копателям у неё не было, только слышала, что, мол, иногда наш брат портит посевы, а в не закопанных ямах ломает ноги скот.
Я не поленился рассказать о том, почему копаюсь на этих буграх, не много об истории места и само собой клятвенно пообещал тщательнейшим образом закидать шурф. Понятно, никто не станет пасти тут скот или высаживать какие-нибудь культуры, но правила хорошего тона надо соблюдать. Дама недолго сохраняла суровость - интересно же! Я показал свои находки, не сказать что бы она особенно впечатлилась, а вот шофёр тут же начал выспрашивать о ценах на м.д. и где можно купить. Проговорили мы минут 30 -40, людям надо было ехать по своим делам, да и у меня было чем заняться. Не знаю, как бы повернулось дело, копайся я на поле, но бугры эти абсолютно бесполезны для сельскохозяйственных работ и я получил, можно сказать, официальное разрешение продолжить свою деятельность. Чем с удовольствием и занялся после того как селяне уселись в свою машину и отправились восвояси. Надеюсь, что смог убедить агрономшу в безвредности любителей приборного поиска. А с шофёром мы обменялись телефонами, я так понимаю, его гораздо больше интересует сбор металлолома и потому полученная от меня информация, что для этого вполне достаточно самого дешёвенького и простенького прибора его очень порадовала.
Порядка двух часов продолжал я лопатить землю, но больше ничего стоящего так и не выскочило. Сместился на несколько метров в сторону и заложил ещё один шурф.
Немного упорства и наконец-то рублик! Всего лишь Николай 2, но всё равно приятно. А ведь, если судить по картам, то во второй половине 19 века здесь уже не жили.
Пора было и честь знать, в смысле собираться домой да и устал я к тому времени здорово. Так и закончилась моя поездка, но, конечно же, в этом сезоне я обязательно ещё не раз побываю на буграх.
Сейчас многие жалуются на выбитость мест и говорят, что готовы по многу часов кидать землю, лишь бы был в этом хоть какой-то смысл.
Вот таких вот сгребённых деревень огромное количество и надо помнить, гребли далеко не только деревни с остатками домов и т.п. По всей видимости, бывало, что сравнивали поля, на которых присутствовало некоторое количество ям и холмиков от домов. Тем, кто не боится работы стоит собрать информацию о подобных местах, ведь иногда копать там оказывается более продуктивно, чем в чистом поле.
Автор -no name.
Как-то раз, летом 2012 года, мы с одним хорошим знакомым, то же копарем разумеется, надумали выбраться в будний день на довольно перспективное, хотя и не большое поле, находившееся сравнительно не далеко от города. Утро началось как обычно, компаньон заехал за мной спозаранку и скоро старенькая «Нива» уже бодро пересчитывала загородные километры. Всё обещало, что день пройдёт прекрасно и отличная погода и вчерашний звонок от знакомого селянина, который сообщил о закончившейся уборке урожая в интересующем меня месте. Собственно этот звонок и послужил причиной того, что напарнику срочно понадобился отгул на работе, который ему к счастью дали. Не зря всё-таки парень вкалывал целую зиму, зарабатывая эти отгулы и почти не появляясь дома.
Пятьдесят километров, даже для такой далеко не скоростной машины как «Нива» (коротышка), не расстояние, скоро мы свернули на просёлок, ещё пара вёрст и на месте.
Тут то, по закону подлости, забренчал телефон коллеги. Почему то мне сразу пришло в голову – хана, возвращаемся! Так и вышло, звонили с работы, все отгулы побоку, сотрудников охранной фирмы, где работает напарник, срочно собирают в офисе в полном составе, так как произошло нечто экстраординарное. Что тут поделаешь? Придётся возвращаться. Конечно, я запросто мог остаться, но раз уж решили выбивать поле вместе, значит, так тому и быть, тем более, через день собирался уехать из города на дачу, а это недели и недели практически ежедневного копа. Пока добирались обратно в город, решили, если он сможет уладить за день все дела, то съездим завтра. Что, кстати сказать, и удалось осуществить на следующий день. А пока же, высадив меня за пол квартала от дома, мой опечаленный напарник укатил утрясать проблемы на работе. Закинув на плечо копательский рюкзак, я побрёл дворами к своему подъезду. Путь лежал через небольшой пустырь, примерно 200 на 200 метров, зажатый со всех сторон многоэтажными домами и дворами заставленными автомобилями. Вообще то, на этом месте должны были выстроить спортивную площадку для детей, даже начали что-то разравнивать. Потом дело встало. Теперь местная детвора самостийно устраивала здесь футбольные матчи, собачники иногда выгуливали своих питомцев, да алкаши выпивали в укромном уголке.
Вот тут-то меня, как говориться «вставило»! Вокруг не было потенциальных любопытствующих и как то совершенно автоматически, я достал из рюкзака Тёрку быстренько привёл её в рабочее состояние, благо рюкзак кладоискателя позволяет не разбирать металлодетектор на все возможные составляющие. Отстроился от грунта, электрических помех и вперёд. Мусора попадалось, как ни странно, вполне терпимое количество, а катушка стояла штатная для 705-й Тёрки - 10,5 DD, 7,5 кГц. Со снайперкой конечно бы удобнее, но я итак без конца крутил головой по сторонам, заниматься сменой катушки было совсем не с руки. Копал как есть, ямки засыпал с особенной тщательностью, да ещё и ногой утрамбовывал. Среди всевозможного городского мелкого металлического хлама часто выскакивала современная ходячка, скоро я даже перестал её рассматривать. Наконец чёткий сигнал, я сразу почувствовал – оно! И правда, на ладони вскорости лежал пятак 1850 года ЕМ 5 копеек 1850 года ЕМ, в потёртом, но вполне читаемом состоянии. Настроение резко улучшилось, ведь коп то происходил в буквальном смысле под окнами собственной городской квартиры, это проживая на даче, в деревне я привык собирать монеты не только сразу за калиткой, но и на самом участке. Но в центре города! Следующие минут 15-20 порадовали меня полушкой Александра 2, вот год не запомнился к сожалению. И тут появились две дамы преклонного возраста, с какой-то маленькой собачишкой на поводке, явно не отягощённой аристократическими, по собачьим меркам, предками. Молча, обошли меня по большому кругу, держась на приличном расстоянии, зато выражения их лиц (собачьей морды в том числе) говорили сами за себя. Очень я пожалел, что нет при мне яркой рабочей жилетки с надписью Водоканал на спине. А ведь хранилась дома не первый год, как раз для таких случаев. Стало понятно, что лучше пока убраться с пустыря, так как я знал по собственному опыту, что могут наплести такие дамочки в трубку телефона, разумеется, набрав предварительно 02. Вряд ли это закончится для меня совсем уж плачевно, но нервы потреплют в любом случае.
Ну что же, уходить, так уходить. Разобрав с деловым видом металлодетектор и не спеша уложив его в рюкзак, я направился к своему дому. А «коварный» план, как прошерстить этот, оказавшийся таким интересным пустырь, уже созрел в моей голове.
Отобедать пришлось тем, что приготовил себе на выезд, не хотелось оставлять готовые бутерброды до следующего дня в холодильнике, да и вообще было ещё не ясно сможет ли мой напарник вырваться с работы. Зато обед не занял много времени, быстро расправившись с запасами, я приступил к подготовке своей сегодняшней конспиративной вылазки. Налобный фонарик был на месте, как и батарейки к нему. Для полного комплекта не хватало только ведра. От жилетки Водоканал было решено отказаться, так как она не вписывалась в легенду готовящегося мероприятия. Ведро в доме, конечно, имелось хотя и использовалось под мусор, но не покупать же ещё одно. Да и не попадал мусор непосредственно в ведро, для этого служили пластиковые пакеты. Тем не менее, я его тщательно промыл, сам не знаю зачем, и собственно был полностью готов к задуманной авантюре.
План был прост. Да, в общем, я и не придумал ничего нового. Ищу какую либо потерянную мелочь, например серёжку жены. Металлодетектор взял попользоваться или в аренду, а так как плохо разбираюсь в работе прибора, то землю с вроде бы полезными сигналами скидываю в ведро, потом при хорошем освещении рассмотрю более внимательно. Если там окажутся монетки вместе с пробками и прочим мусором, так что же поделать, город то старинный... Такова была легенда для особо настырных любопытствующих или подъехавшего полицейского патруля. Между прочим, ведро исполняло не только роль полезного инвентаря. Мало кто отнесётся серьёзно к взрослому мужику, который бродит ночью по пустырю между домами с металлодетектором и явно помойным ведром, вид у него специфический, такие обычно крепятся к створкам дверок под умывальником. Скорее, большинство посмотрит на происходящее с юмором, а значит вполне вероятно, что и ко мне отнесётся более доброжелательно.
Оставалось дождаться ночи, я планировал выйти не раньше 23.00.
Время коротал, просматривая сайты поисковиков в интернете, иногда переключаясь на ТВ, где впрочем, как обычно, посмотреть было нечего.
Тут, пожалуй, стоит упомянуть о расположении вожделенного пустыря. А находился он немного за пределами старинных валов города. Те места, где они проходили даже сейчас можно иногда определить, при некотором усердии, тому, кто хотя бы немного интересуется историей, археологией и краеведением. И в 18-19 веках местность эта была не пустынной, конечно же.
А время, хотя и не ускоряло свой бег, но всё-таки шло и как бы ни тянулся этот день, час «Ч» наконец-то наступил. Подхватив коп рюкзак и ведро, я запер за собой дверь и через минуту уже был на улице. Быстренько добрался до пустыря и только там понял, что погорячился. В погожий летний вечер народу шастает по улицам более чем достаточно. Надо было выходить не ранее часа ночи. Но раз уж пришёл, так не возвращаться же! Тем более что среди недели не заметно во дворах любителей выпить вечернего "морковного сока" у подъезда.
Собрал прибор, расслабился и приступил к делу. Не много забегая вперёд, скажу, отвлекаться мне пришлось лишь дважды, и оба раза это были парочки, сокращающие себе путь через пустырь. Со стороны одной из них было слышно сдержанное хихиканье, вторая проскочила мимо меня довольно быстро никак при этом, не проявив себя.
К сожалению должен признать, этот городской выход несколько не оправдал моих надежд. Кроме пригоршни «ходячки» и поздних советов, выскочил только довольно убитый гривенник Екатерины и пара медяков ранних советов. Хотя, если разобраться, пустырь порадовал меня находками трёх веков. А учитывая утренний облом это было совсем не плохо. Провёл тогда на копе я часа три с небольшим, и к трём ночи, вернее утра, уже был дома. Заготовленная легенда не пригодилась и хорошо. После того как собрал м.д. и уложил его в рюкзак монеты были извлечены из ведра, а земля с мусором вытряхнута у ближайшего контейнера. На будущее для себя понял, конспирация конспирацией, а земли и всякой металлической дряни в ведро надо сыпать поменьше, очень уж замучился перебирать.
Утром, конечно, выспаться мне не дали, в седьмом часу позвонил камрад и радостно сообщил, что вчера разгрёб все проблемы на работе и через сорок минут за мной заедет. Ну что же, ехать на коп, я готов и не выспавшись. А пустырь всё-таки не стоит сбрасывать пока со счета, ведь он так и не застроен. Наверное, не каждый сможет похвастаться копательскими угодьями в центре города и под собственными окнами.
Автор -no name.
Профессиональные кладоискатели себя не афишируют и от встреч с журналистами обычно категорически отказываются. Гоша – поисковый стаж двадцать лет – после долгих уговоров согласился кое-что рассказать о себе.
«Мой дед был проходчиком, коллекторы строил в центре Москвы. Нередко приносил с работы обнаруженные монеты, в основном серебряные, с детский ноготок, «чешуйки». Что-то он оставлял для своей коллекции, остальное относил «жучкам»-перекупщикам, крутившимся у нумизматических отделов.
В 14 лет, когда отец с мамой погибли при аварии, я стал жить с дедом и бабкой. Чтобы не попал в дурную компанию, дед решил приохотить меня к поискам кладов. Книжки разные покупал, по музеям водил, о своих монетах рассказывал, когда и как чеканились; фантазировал, пытаясь представить, когда, кем и почему был спрятан тот или иной клад.
Сто лет назад кладоискатели сбывали свои находки на знаменитой Сухаревке…
Десять лет мы с дедом лазили по чердакам домов, где до революции жил состоятельный народ. Чего там только не находили – книги, документы, фотографии, посуду, музыкальные инструменты, самовары, изразцы… Переносили это добро домой по вечерам, с предосторожностями, чтобы не дай Бог кто не засек. Потом находки мыли, чистили, после чего дед нес их к дяде Васе, торговавшему на «барахолке». На «барахольные» деньги я купил себе и велосипед, и первые джинсы, и переносной магнитофон.
Бабушка ругалась: «Квартиру превратили в помойку!» Сменила гнев на милость, когда принесли ей с чердака фарфоровую китайскую вазу, расписанную красными драконами. Бабка долго любовалась ею, но поставить в сервант побоялась, спрятала на антресоли.
Ценные находки – большая редкость. Да и откуда им взяться? При арестах ЧК – НКВД – МГБ устраивали тщательные обыски, в КГБ целый отдел занимался кладами. Все выгребали. Правда, мы однажды под грудой хлама обнаружили серебряные чайник, сахарницу, набор вилок, ложек и ножей; в другой раз – упакованные в кожаную коробочку два недорогих серебряных портсигара, швейцарские часы, две пары золотых серег да разорванную цепочку. Только вот бабка шуметь начала, не захотела хранить эти вещи дома. Пришлось деду сбыть их через знакомого коллекционера».
Один из чердачных походов позволил Гоше значительно пополнить семейное нумизматическое собрание. Припрятанная кем-то коллекция состояла из античных и средневековых (русских, польских, шведских) золотых и серебряных монет. Только одних денариев Александра Македонского там было штук пятнадцать, и все в отличном состоянии.
Но и это не все. Гоша собрал по чердакам отличную коллекцию холодного оружия – шпаги, сабли, палаши, кинжалы и кортики. Некоторые из них могли бы украсить витрины Исторического музея. Дважды кладоискатели находили старые револьверы, но их, от греха подальше, дед снова припрятывал на чердаке.
«С начала 1990-х годов в столице стало трудно работать, – рассказывал Гоша. – Появилось много молодых искателей. Чердаки обшаривали поселившиеся там бомжи. «Новые русские» стали прибирать к рукам здания в центре Москвы; еще реставрация не началась, а они уже ставили охрану. Да и участковые озверели. Меня один держал в заложниках, пока дед не принес ему двести долларов.
А бросить это дело я уже не мог. «Подсел» на кладоискательство, как на героин. К этому времени дед вышел на пенсию. Я уволился с работы (после окончания института Гоша служил в одном из столичных музеев. – Т. Б.). Стали мы ездить на нашей старенькой «Ниве» по областям – Московской, Тверской, Владимирской, Тульской. У деда везде хоть седьмая вода на киселе, да родня. От них и узнавали о заброшенных деревнях, о помещичьих домах, кто, где и какие клады искал в их краях.
В глухих уголках работать одно удовольствие: и дома можно исследовать без спешки, и с металлоискателем спокойно походить. Был случай, нашли Николу-угодника XVIII века в серебряном окладе и две старопечатные книги; а в одной избе на чердаке, крыша над которым чудом не протекла, обнаружили завернутый в дерюгу граммофон. Обычный же «улов» – медные и серебряные монеты, чугунные утюги, прялки, деревянная утварь, патефоны, керосиновые лампы, сундуки, подсвечники, лампады, чугуны».
От дальней родственницы, всю жизнь проработавшей в сельской школе, узнали о «Семкином кладе».
В забытой Богом и людьми деревне, куда и дорога кустарником поросла, жила некогда семья – мать-старуха и сын Семка. Бедны они были настолько, что даже плохонькие девки выходить замуж за парня не соглашались. Перед Первой мировой войной он уехал на заработки в Москву, оттуда перебрался в Питер. Долгое время о нем не было ни слуху, ни духу. Вернулся Семка в деревню, когда к власти пришли большевики. Одет был богато, на шее – крест золотой, на пальцах – перстни. Матери привез бархатную юбку, шелковую шаль и серьги с большими камнями.
В честь возвращения поставил Семка для мужиков угощение. А как напился, стал хвастать, что золота у него теперь, что грязи. Месяца два гулеванил, щедро давал деньги в долг, а потом в деревню нагрянула уездная милиция. Семку повязали и стали искать золото. Оказалось, что он вместе с дружками-анархистами занимался в Питере грабежами. Во время обыска старуха-мать – с горя или с перепугу – умерла. А Семку, попытавшегося бежать, когда его везли лесом, милиционеры застрелили.
Мужики долго искали Семкину «захоронку», а председатель сельсовета даже его дом разрушил до основания, но клад в руки так и не дался.
«Две недели на месте той деревни я работал как проклятый, – вспоминал Гоша. – Когда откопал кожаный мешок, глазам своим не поверил. Деда пришлось валерьянкой отпаивать… Эх, жалко только, что коробочки фирменные испортились...»
О содержимом мешка удачливый кладоискатель рассказывать наотрез отказался. Но поскольку до революции в фирменных коробочках продавались изделия Болена, Фаберже и других известных ювелиров, можно предположить, что там было.
Не случайно же после продажи нескольких вещей Гоша вставил себе шикарные белоснежные зубы, купил металлодетектор за 3000 долларов и подержанный внедорожник. А «мелочевку» он потихоньку распродает через посредников на Измайловском вернисаже. И я отправилась в Измайлово.
После долгих поисков на одном из прилавков нашла нечто подходящее – в изящных коробочках, обтянутых полуистлевшим блекло-розовым атласом, лежали две небольшие золотые броши-короны; одна украшена мелкими бриллиантами-«розочками», другая – новенькой бирюзой. Такие безделушки изготавливались к 300-летию Дома Романовых. Гошин ли это товар, утверждать не берусь, но украшения явно долгое время хранились не в бабушкином платяном шкафу. Просили за эти короны 300 и 250 долларов, но торг был уместен.
Прогуливаясь по антикварным рядам, приценилась к некоторым предметам. Набор серебряных столовых приборов – $1000; швейцарские часы «Мозер» – $120; образ Николая-угодника в серебряном окладе – $400; граммофон – $400; денарий Александра Македонского – $150; монета-чешуйка в зависимости от состояния – 50-100 рублей (у Гоши их целое ведро). В общем, на молоко со сладкой булочкой Гоша с дедушкой зарабатывают.
Остается добавить, что Гоша считает себя кладоискателем законопослушным, так как он ищет клады не на городищах, не в курганах, то есть не в местах, охраняемых государством.
Лет пять тому назад, сидя долгими зимними вечерами над старыми картами и Э.П. (экономические примечания) мне удалось вычислить одну любопытную деревушку. На картах 19 века, а тем более на картах Ген. штаба она уже не значилась. Тема, безусловно, была интересна потому, как только сошёл снег и соответственно начался копательский сезон, я без промедления отправился на разведку.
По прибытии на место, увидел небольшую возвышенность с тонкой, короткой стернёй оставшейся от скошенной в прошлом году травы. По краю возвышенности тянулся невысокий, какой-то не вписывающийся в окружающий ландшафт бугор, поросший не старым леском. Мечта, а не место!
Находясь в предвкушении интересных находок без промедления расчехлился, собрал металлодетектор и приступил к поискам. Через пару часов блужданий по полю при почти полном отсутствии сигналов у меня начали закрадываться сомнения в точности выхода на позицию. Несколько пробок от бутылок, мелкая советская монетка 80-х годов и что-то от сельхозтехники, это весь результат. Никакого ржавого железа, не говоря уж о монетах, нательных крестиках или каких либо других интересностях. Полный ноль.
Потратив ещё не менее двух часов и всё так же, не зацепив ни одного полезного сигнала, уже не знал, что и думать, так как за это время была разведана достаточно обширная территория. И даже если бы я несколько промахнулся с местом расположения деревни, то всё равно за четыре часа поисков, а может и больше, вышел бы куда нужно. Таковы были ландшафтные особенности, ну никак там не ошибиться на серьёзное расстояние. Огромный овраг и малая речка остались на своём месте, правда речка за минувшие столетия превратилась почти в ручей. А так как деревня находилась между ними, то и промахнуться я мог метров на 200 максимум, более просто некуда.
К своему стыду должен признать, особенно напрягаться и задумываться в чём проблема я не стал. Ну, нет, так нет. Перебираюсь на другое место. Благо таковое имелось неподалёку. Да, были времена, коллег-конкурентов в области не так что бы уж очень много, а не копанных, «вкусных» мест полным полно.
В общем, перебрался я на другую «поляну», хорошо так походил, не в пустую прямо скажем. Отбыл домой в прекрасном расположении духа и без всякой занозы в мозге по поводу не найденной деревни, да и со временем забылась эта маленькая загвоздочка с неудавшейся разведкой.
Шло время, пролетело несколько лет, накопился ещё некоторый поисковый опыт. И вот как-то в прошлом году оказались мы с приятелями в весьма живописных местах. Глубоченный овраг, малая речка, превратившаяся в ручеёк, небольшая возвышенность между ними и никаких сигналов, даже мет. мусора практически нет. В точности выхода на точку мы были уверены, и я сразу обратил внимание на характерные бугры заросшие лесом по краю возвышенности. Всё объяснялось просто, деревня была сдвинута бульдозерами или какой другой тяжёлой техникой и вся культурка (следы жизнедеятельности человека) находились в этих самых поросших лесом буграх. Попробовали заложить пару разведочных шурфов, так и есть. Основательно шурфиться тогда не стали, отложили, что называется – на потом. Вот только меня не покидало чувство дежавю. Присутствовало полное ощущение, что я уже бывал тут, чего быть, разумеется, не могло.
Помучив свою память какое-то время, мне всё-таки удалось вспомнить ту давнюю историю с не найденной деревней. Ситуация один в один, за исключением одного, там шурфить стоило. Но сезон 2012 итак выдался достаточно насыщенным, и я отложил посещение деревни на неопределённый срок. И вот, в начале лета 2013 года пришло время посетить это занимательное местечко.
До места добрался быстро, благо современные средства навигации всегда с собой, да и без них не заплутал бы, не так уж много времени прошло с тех пор, когда я был тут впервые. На поле ничего не изменилось, правда, появились следы деятельности коллег по окрайкам, но были они старые, чуть заметные. Бугры, которые и являлись целью моего визита, оказались не тронуты. Да и мало кому захочется плотно заниматься землекопными работами в таком объёме, особенно если отсутствует информация о том, ради чего это делать. Видимо у тех, кто здесь успел побывать, такой информации не было или лень матушка одолела, что собственно и не удивительно. Я же владел достаточной информацией, что бы рассчитывать уйти не пустым. Одно было плохо, ехать пришлось одному, так уж сложилось. Но ничего, как говорится – попытка, не пытка.
Попив чайку, расчехлился и приступил к поискам, по верху сигналов было то много, то отсутствовали совсем. К сожалению хотя бы чего-то достойного внимания не попадалось. Не слишком удобно было пробираться по заросшим леском и кустарником буграм прозванивая их металлодетектором и довольно быстро мне это наскучило. Тем более что так и не попало ни одной завалящей монетки.
Решил не тратить время понапрасну и приступить к шурфлению. Самое неприятное, это то, что при данном раскладе просто невозможно строить какие-то предположения о том, где могут быть сконцентрированы цели.
Повезло мне довольно быстро, порадовала полтина 1817 года. Вообще-то я рассчитывал на что-то постарше, но и эта находка весьма и весьма не частая, жаль, что задета при сравнивании деревни или ещё раньше. Настроение заметно поднялось, я начал копать с утроенной энергией.
Активная работа с перекурами продолжалась, изредка попадались рядовые монетки, что конечно добавляло энтузиазма только ведь как обычно, хотелось большего.
Но вот пришло время обеда, да и подустал изрядно честно сказать, перекусить расположился рядом со своим очень даже внушительного вида шурфом. Я уже дожевал последний бутерброд и собирался налить из термоса очередную кружку чая, когда услышал урчание двигателя и увидел пробирающийся по краю поля в мою сторону УАЗ. Коллеги? Колхозники?
Вообще-то меня особенно не напрягают подобные встречи, вот только разрытый шурф как-то смущал. Мало ли что...
Тем временем машина подъехала ко мне почти вплотную, из неё вышла дама средних лет, а следом за ней и шофёр УАЗа. С суровым любопытством она окинула взглядом дело рук моих, здоровенный шурф, меаллодетектор лежащий около него и наконец-то сосредоточила своё внимание на моей скромной персоне. Я естественно поздоровался со всем возможным дружелюбием. Дама, всё так же сурово кивнула в ответ, в это время шофёр с интересом разглядывал шурф, обходя его по периметру. И состоялась беседа.
Не буду приводить её во всех подробностях, скажу только, мадам оказалась местным агрономом и приехала на это поле по каким-то своим делам. Никаких определённых претензий к копателям у неё не было, только слышала, что, мол, иногда наш брат портит посевы, а в не закопанных ямах ломает ноги скот.
Я не поленился рассказать о том, почему копаюсь на этих буграх, не много об истории места и само собой клятвенно пообещал тщательнейшим образом закидать шурф. Понятно, никто не станет пасти тут скот или высаживать какие-нибудь культуры, но правила хорошего тона надо соблюдать. Дама недолго сохраняла суровость - интересно же! Я показал свои находки, не сказать что бы она особенно впечатлилась, а вот шофёр тут же начал выспрашивать о ценах на м.д. и где можно купить. Проговорили мы минут 30 -40, людям надо было ехать по своим делам, да и у меня было чем заняться. Не знаю, как бы повернулось дело, копайся я на поле, но бугры эти абсолютно бесполезны для сельскохозяйственных работ и я получил, можно сказать, официальное разрешение продолжить свою деятельность. Чем с удовольствием и занялся после того как селяне уселись в свою машину и отправились восвояси. Надеюсь, что смог убедить агрономшу в безвредности любителей приборного поиска. А с шофёром мы обменялись телефонами, я так понимаю, его гораздо больше интересует сбор металлолома и потому полученная от меня информация, что для этого вполне достаточно самого дешёвенького и простенького прибора его очень порадовала.
Порядка двух часов продолжал я лопатить землю, но больше ничего стоящего так и не выскочило. Сместился на несколько метров в сторону и заложил ещё один шурф.
Немного упорства и наконец-то рублик! Всего лишь Николай 2, но всё равно приятно. А ведь, если судить по картам, то во второй половине 19 века здесь уже не жили.
Пора было и честь знать, в смысле собираться домой да и устал я к тому времени здорово. Так и закончилась моя поездка, но, конечно же, в этом сезоне я обязательно ещё не раз побываю на буграх.
Сейчас многие жалуются на выбитость мест и говорят, что готовы по многу часов кидать землю, лишь бы был в этом хоть какой-то смысл.
Вот таких вот сгребённых деревень огромное количество и надо помнить, гребли далеко не только деревни с остатками домов и т.п. По всей видимости, бывало, что сравнивали поля, на которых присутствовало некоторое количество ям и холмиков от домов. Тем, кто не боится работы стоит собрать информацию о подобных местах, ведь иногда копать там оказывается более продуктивно, чем в чистом поле.
Автор -no name.
Как-то раз, летом 2012 года, мы с одним хорошим знакомым, то же копарем разумеется, надумали выбраться в будний день на довольно перспективное, хотя и не большое поле, находившееся сравнительно не далеко от города. Утро началось как обычно, компаньон заехал за мной спозаранку и скоро старенькая «Нива» уже бодро пересчитывала загородные километры. Всё обещало, что день пройдёт прекрасно и отличная погода и вчерашний звонок от знакомого селянина, который сообщил о закончившейся уборке урожая в интересующем меня месте. Собственно этот звонок и послужил причиной того, что напарнику срочно понадобился отгул на работе, который ему к счастью дали. Не зря всё-таки парень вкалывал целую зиму, зарабатывая эти отгулы и почти не появляясь дома.
Пятьдесят километров, даже для такой далеко не скоростной машины как «Нива» (коротышка), не расстояние, скоро мы свернули на просёлок, ещё пара вёрст и на месте.
Тут то, по закону подлости, забренчал телефон коллеги. Почему то мне сразу пришло в голову – хана, возвращаемся! Так и вышло, звонили с работы, все отгулы побоку, сотрудников охранной фирмы, где работает напарник, срочно собирают в офисе в полном составе, так как произошло нечто экстраординарное. Что тут поделаешь? Придётся возвращаться. Конечно, я запросто мог остаться, но раз уж решили выбивать поле вместе, значит, так тому и быть, тем более, через день собирался уехать из города на дачу, а это недели и недели практически ежедневного копа. Пока добирались обратно в город, решили, если он сможет уладить за день все дела, то съездим завтра. Что, кстати сказать, и удалось осуществить на следующий день. А пока же, высадив меня за пол квартала от дома, мой опечаленный напарник укатил утрясать проблемы на работе. Закинув на плечо копательский рюкзак, я побрёл дворами к своему подъезду. Путь лежал через небольшой пустырь, примерно 200 на 200 метров, зажатый со всех сторон многоэтажными домами и дворами заставленными автомобилями. Вообще то, на этом месте должны были выстроить спортивную площадку для детей, даже начали что-то разравнивать. Потом дело встало. Теперь местная детвора самостийно устраивала здесь футбольные матчи, собачники иногда выгуливали своих питомцев, да алкаши выпивали в укромном уголке.
Вот тут-то меня, как говориться «вставило»! Вокруг не было потенциальных любопытствующих и как то совершенно автоматически, я достал из рюкзака Тёрку быстренько привёл её в рабочее состояние, благо рюкзак кладоискателя позволяет не разбирать металлодетектор на все возможные составляющие. Отстроился от грунта, электрических помех и вперёд. Мусора попадалось, как ни странно, вполне терпимое количество, а катушка стояла штатная для 705-й Тёрки - 10,5 DD, 7,5 кГц. Со снайперкой конечно бы удобнее, но я итак без конца крутил головой по сторонам, заниматься сменой катушки было совсем не с руки. Копал как есть, ямки засыпал с особенной тщательностью, да ещё и ногой утрамбовывал. Среди всевозможного городского мелкого металлического хлама часто выскакивала современная ходячка, скоро я даже перестал её рассматривать. Наконец чёткий сигнал, я сразу почувствовал – оно! И правда, на ладони вскорости лежал пятак 1850 года ЕМ 5 копеек 1850 года ЕМ, в потёртом, но вполне читаемом состоянии. Настроение резко улучшилось, ведь коп то происходил в буквальном смысле под окнами собственной городской квартиры, это проживая на даче, в деревне я привык собирать монеты не только сразу за калиткой, но и на самом участке. Но в центре города! Следующие минут 15-20 порадовали меня полушкой Александра 2, вот год не запомнился к сожалению. И тут появились две дамы преклонного возраста, с какой-то маленькой собачишкой на поводке, явно не отягощённой аристократическими, по собачьим меркам, предками. Молча, обошли меня по большому кругу, держась на приличном расстоянии, зато выражения их лиц (собачьей морды в том числе) говорили сами за себя. Очень я пожалел, что нет при мне яркой рабочей жилетки с надписью Водоканал на спине. А ведь хранилась дома не первый год, как раз для таких случаев. Стало понятно, что лучше пока убраться с пустыря, так как я знал по собственному опыту, что могут наплести такие дамочки в трубку телефона, разумеется, набрав предварительно 02. Вряд ли это закончится для меня совсем уж плачевно, но нервы потреплют в любом случае.
Ну что же, уходить, так уходить. Разобрав с деловым видом металлодетектор и не спеша уложив его в рюкзак, я направился к своему дому. А «коварный» план, как прошерстить этот, оказавшийся таким интересным пустырь, уже созрел в моей голове.
Отобедать пришлось тем, что приготовил себе на выезд, не хотелось оставлять готовые бутерброды до следующего дня в холодильнике, да и вообще было ещё не ясно сможет ли мой напарник вырваться с работы. Зато обед не занял много времени, быстро расправившись с запасами, я приступил к подготовке своей сегодняшней конспиративной вылазки. Налобный фонарик был на месте, как и батарейки к нему. Для полного комплекта не хватало только ведра. От жилетки Водоканал было решено отказаться, так как она не вписывалась в легенду готовящегося мероприятия. Ведро в доме, конечно, имелось хотя и использовалось под мусор, но не покупать же ещё одно. Да и не попадал мусор непосредственно в ведро, для этого служили пластиковые пакеты. Тем не менее, я его тщательно промыл, сам не знаю зачем, и собственно был полностью готов к задуманной авантюре.
План был прост. Да, в общем, я и не придумал ничего нового. Ищу какую либо потерянную мелочь, например серёжку жены. Металлодетектор взял попользоваться или в аренду, а так как плохо разбираюсь в работе прибора, то землю с вроде бы полезными сигналами скидываю в ведро, потом при хорошем освещении рассмотрю более внимательно. Если там окажутся монетки вместе с пробками и прочим мусором, так что же поделать, город то старинный... Такова была легенда для особо настырных любопытствующих или подъехавшего полицейского патруля. Между прочим, ведро исполняло не только роль полезного инвентаря. Мало кто отнесётся серьёзно к взрослому мужику, который бродит ночью по пустырю между домами с металлодетектором и явно помойным ведром, вид у него специфический, такие обычно крепятся к створкам дверок под умывальником. Скорее, большинство посмотрит на происходящее с юмором, а значит вполне вероятно, что и ко мне отнесётся более доброжелательно.
Оставалось дождаться ночи, я планировал выйти не раньше 23.00.
Время коротал, просматривая сайты поисковиков в интернете, иногда переключаясь на ТВ, где впрочем, как обычно, посмотреть было нечего.
Тут, пожалуй, стоит упомянуть о расположении вожделенного пустыря. А находился он немного за пределами старинных валов города. Те места, где они проходили даже сейчас можно иногда определить, при некотором усердии, тому, кто хотя бы немного интересуется историей, археологией и краеведением. И в 18-19 веках местность эта была не пустынной, конечно же.
А время, хотя и не ускоряло свой бег, но всё-таки шло и как бы ни тянулся этот день, час «Ч» наконец-то наступил. Подхватив коп рюкзак и ведро, я запер за собой дверь и через минуту уже был на улице. Быстренько добрался до пустыря и только там понял, что погорячился. В погожий летний вечер народу шастает по улицам более чем достаточно. Надо было выходить не ранее часа ночи. Но раз уж пришёл, так не возвращаться же! Тем более что среди недели не заметно во дворах любителей выпить вечернего "морковного сока" у подъезда.
Собрал прибор, расслабился и приступил к делу. Не много забегая вперёд, скажу, отвлекаться мне пришлось лишь дважды, и оба раза это были парочки, сокращающие себе путь через пустырь. Со стороны одной из них было слышно сдержанное хихиканье, вторая проскочила мимо меня довольно быстро никак при этом, не проявив себя.
К сожалению должен признать, этот городской выход несколько не оправдал моих надежд. Кроме пригоршни «ходячки» и поздних советов, выскочил только довольно убитый гривенник Екатерины и пара медяков ранних советов. Хотя, если разобраться, пустырь порадовал меня находками трёх веков. А учитывая утренний облом это было совсем не плохо. Провёл тогда на копе я часа три с небольшим, и к трём ночи, вернее утра, уже был дома. Заготовленная легенда не пригодилась и хорошо. После того как собрал м.д. и уложил его в рюкзак монеты были извлечены из ведра, а земля с мусором вытряхнута у ближайшего контейнера. На будущее для себя понял, конспирация конспирацией, а земли и всякой металлической дряни в ведро надо сыпать поменьше, очень уж замучился перебирать.
Утром, конечно, выспаться мне не дали, в седьмом часу позвонил камрад и радостно сообщил, что вчера разгрёб все проблемы на работе и через сорок минут за мной заедет. Ну что же, ехать на коп, я готов и не выспавшись. А пустырь всё-таки не стоит сбрасывать пока со счета, ведь он так и не застроен. Наверное, не каждый сможет похвастаться копательскими угодьями в центре города и под собственными окнами.
Автор -no name.
Профессиональные кладоискатели себя не афишируют и от встреч с журналистами обычно категорически отказываются. Гоша – поисковый стаж двадцать лет – после долгих уговоров согласился кое-что рассказать о себе.
«Мой дед был проходчиком, коллекторы строил в центре Москвы. Нередко приносил с работы обнаруженные монеты, в основном серебряные, с детский ноготок, «чешуйки». Что-то он оставлял для своей коллекции, остальное относил «жучкам»-перекупщикам, крутившимся у нумизматических отделов.
В 14 лет, когда отец с мамой погибли при аварии, я стал жить с дедом и бабкой. Чтобы не попал в дурную компанию, дед решил приохотить меня к поискам кладов. Книжки разные покупал, по музеям водил, о своих монетах рассказывал, когда и как чеканились; фантазировал, пытаясь представить, когда, кем и почему был спрятан тот или иной клад.
Сто лет назад кладоискатели сбывали свои находки на знаменитой Сухаревке…
Десять лет мы с дедом лазили по чердакам домов, где до революции жил состоятельный народ. Чего там только не находили – книги, документы, фотографии, посуду, музыкальные инструменты, самовары, изразцы… Переносили это добро домой по вечерам, с предосторожностями, чтобы не дай Бог кто не засек. Потом находки мыли, чистили, после чего дед нес их к дяде Васе, торговавшему на «барахолке». На «барахольные» деньги я купил себе и велосипед, и первые джинсы, и переносной магнитофон.
Бабушка ругалась: «Квартиру превратили в помойку!» Сменила гнев на милость, когда принесли ей с чердака фарфоровую китайскую вазу, расписанную красными драконами. Бабка долго любовалась ею, но поставить в сервант побоялась, спрятала на антресоли.
Ценные находки – большая редкость. Да и откуда им взяться? При арестах ЧК – НКВД – МГБ устраивали тщательные обыски, в КГБ целый отдел занимался кладами. Все выгребали. Правда, мы однажды под грудой хлама обнаружили серебряные чайник, сахарницу, набор вилок, ложек и ножей; в другой раз – упакованные в кожаную коробочку два недорогих серебряных портсигара, швейцарские часы, две пары золотых серег да разорванную цепочку. Только вот бабка шуметь начала, не захотела хранить эти вещи дома. Пришлось деду сбыть их через знакомого коллекционера».
Один из чердачных походов позволил Гоше значительно пополнить семейное нумизматическое собрание. Припрятанная кем-то коллекция состояла из античных и средневековых (русских, польских, шведских) золотых и серебряных монет. Только одних денариев Александра Македонского там было штук пятнадцать, и все в отличном состоянии.
Но и это не все. Гоша собрал по чердакам отличную коллекцию холодного оружия – шпаги, сабли, палаши, кинжалы и кортики. Некоторые из них могли бы украсить витрины Исторического музея. Дважды кладоискатели находили старые револьверы, но их, от греха подальше, дед снова припрятывал на чердаке.
«С начала 1990-х годов в столице стало трудно работать, – рассказывал Гоша. – Появилось много молодых искателей. Чердаки обшаривали поселившиеся там бомжи. «Новые русские» стали прибирать к рукам здания в центре Москвы; еще реставрация не началась, а они уже ставили охрану. Да и участковые озверели. Меня один держал в заложниках, пока дед не принес ему двести долларов.
А бросить это дело я уже не мог. «Подсел» на кладоискательство, как на героин. К этому времени дед вышел на пенсию. Я уволился с работы (после окончания института Гоша служил в одном из столичных музеев. – Т. Б.). Стали мы ездить на нашей старенькой «Ниве» по областям – Московской, Тверской, Владимирской, Тульской. У деда везде хоть седьмая вода на киселе, да родня. От них и узнавали о заброшенных деревнях, о помещичьих домах, кто, где и какие клады искал в их краях.
В глухих уголках работать одно удовольствие: и дома можно исследовать без спешки, и с металлоискателем спокойно походить. Был случай, нашли Николу-угодника XVIII века в серебряном окладе и две старопечатные книги; а в одной избе на чердаке, крыша над которым чудом не протекла, обнаружили завернутый в дерюгу граммофон. Обычный же «улов» – медные и серебряные монеты, чугунные утюги, прялки, деревянная утварь, патефоны, керосиновые лампы, сундуки, подсвечники, лампады, чугуны».
От дальней родственницы, всю жизнь проработавшей в сельской школе, узнали о «Семкином кладе».
В забытой Богом и людьми деревне, куда и дорога кустарником поросла, жила некогда семья – мать-старуха и сын Семка. Бедны они были настолько, что даже плохонькие девки выходить замуж за парня не соглашались. Перед Первой мировой войной он уехал на заработки в Москву, оттуда перебрался в Питер. Долгое время о нем не было ни слуху, ни духу. Вернулся Семка в деревню, когда к власти пришли большевики. Одет был богато, на шее – крест золотой, на пальцах – перстни. Матери привез бархатную юбку, шелковую шаль и серьги с большими камнями.
В честь возвращения поставил Семка для мужиков угощение. А как напился, стал хвастать, что золота у него теперь, что грязи. Месяца два гулеванил, щедро давал деньги в долг, а потом в деревню нагрянула уездная милиция. Семку повязали и стали искать золото. Оказалось, что он вместе с дружками-анархистами занимался в Питере грабежами. Во время обыска старуха-мать – с горя или с перепугу – умерла. А Семку, попытавшегося бежать, когда его везли лесом, милиционеры застрелили.
Мужики долго искали Семкину «захоронку», а председатель сельсовета даже его дом разрушил до основания, но клад в руки так и не дался.
«Две недели на месте той деревни я работал как проклятый, – вспоминал Гоша. – Когда откопал кожаный мешок, глазам своим не поверил. Деда пришлось валерьянкой отпаивать… Эх, жалко только, что коробочки фирменные испортились...»
О содержимом мешка удачливый кладоискатель рассказывать наотрез отказался. Но поскольку до революции в фирменных коробочках продавались изделия Болена, Фаберже и других известных ювелиров, можно предположить, что там было.
Не случайно же после продажи нескольких вещей Гоша вставил себе шикарные белоснежные зубы, купил металлодетектор за 3000 долларов и подержанный внедорожник. А «мелочевку» он потихоньку распродает через посредников на Измайловском вернисаже. И я отправилась в Измайлово.
После долгих поисков на одном из прилавков нашла нечто подходящее – в изящных коробочках, обтянутых полуистлевшим блекло-розовым атласом, лежали две небольшие золотые броши-короны; одна украшена мелкими бриллиантами-«розочками», другая – новенькой бирюзой. Такие безделушки изготавливались к 300-летию Дома Романовых. Гошин ли это товар, утверждать не берусь, но украшения явно долгое время хранились не в бабушкином платяном шкафу. Просили за эти короны 300 и 250 долларов, но торг был уместен.
Прогуливаясь по антикварным рядам, приценилась к некоторым предметам. Набор серебряных столовых приборов – $1000; швейцарские часы «Мозер» – $120; образ Николая-угодника в серебряном окладе – $400; граммофон – $400; денарий Александра Македонского – $150; монета-чешуйка в зависимости от состояния – 50-100 рублей (у Гоши их целое ведро). В общем, на молоко со сладкой булочкой Гоша с дедушкой зарабатывают.
Остается добавить, что Гоша считает себя кладоискателем законопослушным, так как он ищет клады не на городищах, не в курганах, то есть не в местах, охраняемых государством.
-
pioneer

- Старожил

- Сообщений: 777
- Стаж: 6 лет 6 месяцев
- Имя: Лёха
- Местонахождение: Свияжское воеводство
- Благодарил (а): 291 раз
- Поблагодарили: 1118 раз
Автор -no name.
Друг подарил на Новый год немецкий смертный медальон на толстой серебряной цепи. На вид ничего особенного - овальная алюминиевая пластина, разделенная на две части пунктирной просечкой. После смерти владельца медальон ломали, одну часть оставляли на трупе, другую передавали в штаб дивизии. Бывшему хозяину этой вещицы не везло просто фатально. Судя по маркировкам на медальоне, его за какую-то провинность перевели с непыльной службы по охране аэродромов люфтваффе «Flieger Horst Schutze» (Fl. H. Sch.) в запасной пехотный батальон «Infanterie Ersatz Bataillon» (Inf. ers. batl.), который в итоге весь полег у станции Погостье. Немца этого не нашли после боя - он так и остался лежать в заваленной траншее.
Получив подарок, я не придумал ничего умнее, чем надеть медальон на себя. Дальше события стали разворачиваться головокружительно. За несколько дней я, нищий студент, потерял все, что у меня было. Для начала ушла жена. Через день, перегоняя чужую ржавую «копейку» со штрафстоянки, я въехал в зад новенькой «девятки». Пока разбирался с последствиями аварии, меня отчислили из института. Из дамского общежития, где я жил нелегально, меня попросили выехать в течение трех дней на улицу. Можно было смело вешаться, но не нашлось подходящего крюка. Решение пришло во сне, неосознанно: толстая цепь, на которой висел медальон, запуталась и захлестнула шею так, что на горле остался багровый рубец. Я снял с себя от греха подальше эту любопытную вещицу с «историей», и жизнь так же резко стала налаживаться. Я многим рассказывал про этот медальон. Если мне не верили, я доставал его со словами: «На, поноси немного...»
Автор -no name.
Давно хотел написать историю об одном кладе, но получилось ее написать только сейчас. Было это на самом деле или это все ложь, не известно, но сама история не оставит вас в спокойствии. Эту байку мне рассказал мой друг кладоискатель, в то время как мы ехали на коп.
Значит было три заядливых копателя, всегда на выходные они выезжали на место поиска монет. Жили парни в городе, в обычных высотках. Так вот из соседнего подъезда выгуливая собаку, один парень видел, что копари берут приборы, кидают их в багажник, а возвращаются с добычей в руках. Этот парняга примерно знал об их хобби, но всегда боялся, толи стеснялся к ним подойти и попросить чтобы взяли с собой на коп. Но все таки рискнул. Петя, Толя, Коля (настоящих имен называть не буду) ему не отказали, назначили день недели и предложили поехать с ночевкой. Парняга естественно был очень рад.
Вот настал тот удачный день, собирая сумки, ребята взяли нового друга, еще тогда не зная что он им принесет удачу в крупных размерах. Выехали рано утром, еще было очень темно. Ехали не на абы как, а по редким старинным картам. По пути, как всегда рассказывали друг другу о находка, по молодому парню было видно как он с удовольствием слушает и его это реально зацепило.
Приехавши на место, собравши приборы, все разбежались. Парняга бегал то к одному, то к другому кладоискателю, иногда брал прибор и находил какие-то металлические находки. Но возле Толи он был подольше чем возле кого-либо другого. Наверное какое-то чутье сработало что Толя найдет клад, или просто совпадение. Места клада никому не известно. Искали приблизительно как иголку в стоге сена.
Ближе к вечеру домой шел старый пастух, за кладоискателями он наблюдал целый день. Ребятам он рассказал одну истории об одном кладе. Естественно они поначалу не поверили старику, но на следующий день по его совету пошли искать в назначенном месте кладуху.
Три друга, шли с приборами и сканировали землю, нашел то один монетку то другой. Монеты находились так часто, как будто тут ник-то не копал раньше. После того как парни набили полные карманы монет, один из «Кладоискателей» нашел клад. Для того что бы его достать, ребятам понадобилось около 3-ех часов. Раскапывали его все четырем. В итоге это вышло две спортивные сумки медных и серебряных монет.
Решили остаться еще на один день. Стало вечереть, разожгли костер, достали пару бутылок водки. Молодой начинающий кладоискатель не пил, у всех расспрашивал сколько стоит найденный клад, сколько монет там и так далее. Да и опытные кладоискатели с радостью рассказывали ему о монетах все то что знали.
Утром Петя просыпается, и сразу идет проверять найденный клад, не сон толи был вчера. Открывает багажник, и его лицо резко бледнеет, когда он видит что он пустой. Сразу разбудивши всю команду, начали Загрузка...гадать куда могли пропасть сумки из закрытого багажника машины.
Толя обвинял все пацана, говорил, что не зря тот спрашивал за сколько можно продать кладуху. Они втроем чуть не убили того парня, из-за жадности к сокровищам. И спрашивали, и угрожали, и умоляли, но молодой так и не раскололся.
История с потерянным кладом закончилась тем, что молодого пацана запугали так что он убежал в посадку и вскрыл вены. А кладоискатели сумку с монетами нашли под машиной, потом уже вспоминая что в багажник ее ни кто не клал.
Автор -no name.
Я живу в Петербурге и занимаюсь приборным поиском уже несколько лет. Каждый понедельник меня терзает простой и знакомый всем вопрос: «куда поехать копать на выходных?». Первое время, на заре моей практики, я не долго размышлял – просто брал старинные карты и сравнивал с современным атласом. Искал несуществующие селения, так называемые урочища. У нас в Ленинградской области таких мест очень много. Вторая мировая сделала свое черное дело. Можно сказать, что 25% селений были стерты с лица земли этой войной. Но велико было мое разочарование, когда за первый год поиска кладов мне не встретилось ни одного места, где бы я не нашел ямок. Даже в самых труднопроходимых местах мне попадались следы кладоискательской практики. Постепенно я немного изменил тактику выбора мест – я начал посещать урочища, состоявшие когда-то из 2-3 дворов, а не из 15-40, как раньше. И тут меня ждало разочарование. Везде ступала нога копателя, и лопата оставляла ямки. Я удалялся на сотни километров от города и нигде не мог найти «небитую» деревню. Находки конечно у меня были, ведь все мы знаем, что выбитых мест не существует. Иногда большее количество находок дарило место, которое старательно выбивается на протяжении десятка лет. Постепенно я начал вести поиск не обращая внимания на старинные карты. Просто находил красивое поле и начинал поиск. Иногда подобная тактика меня очень радовала. В местах где, судя по старинным картам 19 века, никогда ничего не было удавалось поднимать очень много очень интересных и дорогих вещей 18-20 веков. За первый выход можно было найти около 100 монет и других интересных находок. Почему в «пустом поле» удавалось найти такое скопление старинных артефактов? Эта загадка не давала мне покоя, пока я не собрал и не осмотрел еще раз внимательно все находки с таких мест. Их роднило одно интересное свойство – огромное количество мундирных пуговиц и элементов гусарского обмундирования. Все монеты были 18-19 веков. На старинных картах к этим местам вели полевые дороги, растворяющиеся посреди полей. Все оказалось очень просто. Это места расположения войск (лагерь, казарма …). Места, где проходили учения и построения, стояли бараки. Отсюда и большое количество пуговиц, элементов обмундирования, свинцовых пуль и даже пробок от шампанского «Вдова Клико». Любили гусары хорошо отдохнуть. Такие места очень радовали изобилием серебряных монет и наград, особенно ополченских крестов и наградных лент. Еще одна особенность таких мест – близкое расположение к городу. Начал работать принцип: «чем ближе к городу – тем больше хабора». Я начал более внимательно изучать историю гусарских полков и даже навестил Селищенские казармы, где проходил военную службу Михаил Юрьевич Лермонтов. Каждый раз поднимая очередную пуговку я представлял, что возможно она когда-то была на его мундире.
Автор -no name.
1997 году я с семьей в выходные отдыхал недалеко от Звенигорода на Москве реке. По описанию достопримечательностей окрестностей Звенигорода в этом месте находилась большая группа славянских курганов. Однако, приехав, мы с удивлением увидели, что на месте курганного могильника, полным ходом идет строительство коттеджей, лес спилен, вырыты котлованы, вся площадка выровнена бульдозерами. От курганов фактически ничего не осталось. Только если присмотреться, кое-где на земле видны темные пятна от стоявших, когда-то курганов. Искупавшись, пожарив шашлыки, мы уехали. Но я решил приехать сюда на следующий день и походить на стройплощадке, проверить отвалы, авось, что попадется.
На следующий день с утра я был на месте. День был выходной, редкие строители-таджики не обращали на меня внимания. Проверил отвал, другой, прибор фиксировал железки, но вот и что-то «цветное», прибор запел уверенным голосом. Проверяем, точно - бубенчик. Через некоторое время еще один, а вот прямо на земле валяется рыболовной крючок, хорошая рыба водилась, подумал, взвешивая на ладони 10- ти сантиметровый крюк. Мои поиски привлекли внимание группы отдыхающих, человек пять мужчин стояли метрах в 100 и наблюдали за мной. Один из них отделился и направился ко мне. Если ищешь в людных местах, часто подходят, спрашивают, мол, что делаешь, что за аппарат, поэтому я нисколько не удивился любопытству подошедшего. Да и выглядел этот человек вполне дружелюбно.
- Здравствуйте, -поздоровался он, - позвольте узнать, что вы делаете.
Не подозревая никаких подвохов, я рассказал ему, что в этом месте жили славяне, а тут находился могильник, курганы снесли, вот хожу, надеюсь найти то, что осталось.Показал ему находки, бубенчики, крючок. Мужчина явно заинтересовался, спросил, а для чего это мне. На этот вопрос трудно ответить, хобби. Разговорились, собеседник настойчиво интересуется, а куда я вещи дену, сколько они стоят. Пожимаю плечами, отсылаю его на вернисаж в Измайлово. За настойчивостью прохожего проглядывается не праздное любопытство, а что-то еще. Это «еще», я в полной мере ощутил, спустя пару часов, в звенигородском отделении милиции. Наконец назойливый мужчина уходит, оставляя у меня в душе какое то смутное подозрение, уж больно он дотошно выспрашивал, сколько это стоит, и куда я это дену.
Походив еще минут двадцать, я собрался и поехал домой. Вырулив, с проселка на шоссе увидел милицейский Уазик, милиционер, махнув жезлом,
остановил меня. Угрюмо проверил документы, попросил выйти из машины и добровольно выдать оружие. Диалог был примерно таким:
- Оружие есть?
- Нет.
- Антиквариат есть?
- А что, антиквариат, тоже запрещен?
- Тебя спрашивают, есть или нет?
- Есть, вот два бубенчика.
- А это что?
- Металлоискатель.
- Разрешение есть?
- А разве нужно?
- Следуйте за нами.
Ко мне в машину залез огромный, толстый сержант с автоматом, и мы поехали вслед за Уазиком.Приехав в Звенигород, завернули во двор отделения милиции. Дежурный объявил, что я задержан, есть заявление от некого Чернова С.З., о том, что я уничтожил курганный могильник (больше сотни насыпей), используя, при этом металлоискатель. И мне придется отвечать за сие противоправное деяние. С меня взяли показания, конфисковали металлоискатель и отпустили, взяв подписку о том, что я немедленно прибуду, когда вызовут. Грустный я покидал это заведение, каково же было мое удивление, когда я увидел на втором этаже того самого «прохожего», который допытывался у меня о судьбе вещей. Он эмоционально говорил, что-то дежурному следователю, размахивая руками. Увидев меня, прохожий юркнул на лестницу и был таков.
Понимая, что спасение утопающего дело рук самого утопающего, я, буквально, на следующий день организовал целую экспедицию к «разрушенному мной могильнику». Взял видеокамеру, снял стройку, снял котлованы, бульдозеры. Удалось взять интервью у строителей, которые честно рассказали, что «холмики» (курганы) которые тут были, снесли бульдозером еще месяца два назад. Дня через три раздался звонок, звонили из Одинцовского управления внутренних дел. Приехал. Молодой дознаватель ознакомил меня с заявлением г-на Чернова С.З.. Я в ответ рассказал все, как было, предложил поехать на место совершенного преступления и убедиться в моих словах самому, что мы и сделали. Не буду тратить бумагу на описание формальностей, которые необходимо было соблюсти, мне пришлось ездить в Одинцово еще не раз. Но, спасибо, дознавателю, он подошел объективно, и в возбуждении уголовного дела было отказано.После всех этих перипетий я узнал, что г-н Чернов нашел общий язык с хозяевами коттеджей. И перестал бузить, а дабы совсем уладить конфликт, нанялся восстанавливать уничтоженные насыпи, вероятно не бесплатно. Передо мной он даже не извинился, не говоря уже о том, чтобы как-то компенсировать моральный и материальный ущерб.
Автор -no name.
Первый год моих приключений в поисках утраченных древностей, начался, как и подобает истинному поисковику, фактически с нуля. Эта история ещё раз подтверждает то ошибочное мнение начинающих кладоискателей, что все клады должны течь к нам рекой, только подставляй руки, и они будут сыпаться не переставая.
А начну с того+++. как-то, одним ранним днём, на заре своего похождения за кладами, я встретил своего давнего друга Костика. Заядлого рыболова, охотника, путешественника и также любителя всего неизведанного и тайного. Так как мы встречаемся, не слишком часто, то поговорить нам было о чём. Мы всегда находили общие темы. Поведал я ему что, крыша у меня немного съехала, купил металлоискатель и хожу по полям и лесам в поисках ненайденных кладов.
Костик парень заводной, компанейский. Сразу проникся интересом к поиску земельных сокровищ. И рассказал такую историю, что, как-то охотясь с друзьями на птицу, забрёл в одно интересное место. Посреди леса и болот, находится заброшенное урочище. На двух холмах. Но так как его самого туда водили, и было это зимой, ему жутко захотелось сходить туда ещё раз и осмотреть всё подробно, сфотографировать и снять на видео. А притом что у меня оказался металлодетектор, то сам Бог велел там поискать что-нибудь ценное! Всё! Решено! Едем! Решили мы. И договорившись, встретится вечером, и обсудить всю поездку досконально. Вечер ещё не наступил, а мы уже склонились над картой этого места, водя пальцем по указанным дорогам. Место и правда интересное посреди леса поляна, а на поляне чёрный крестик стоит, прямо обозначение копать здесь ! Решили для начала разведать все пути дороги, ведущие в пункт назначения. У друга джип Toyota, у нас не возникало вопросов, на чём нам ехать. Уточнили, что с собой брать, и стали дожидаться ближайших выходных. Эти дни просидели как на иголках, всё представлялось, как мы достаём из земли все церковные сокровища. Не один раз возникала мысль Когда же, наконец, суббота?! .
Ну, вот и наступил долгожданный день, цели нашего путешествия. Прихватив с собой прибор и ружьё, кое, что и съестного мы скоренько тронулись в путь. По дороге долго спорили, как и куда лучше ехать, суду по карте к этому месту вели три тропы называемые дорогами. Порешили на том, что нам как раз подойдёт самый кратчайший путь. Но не тут-то и было. На первом пути, как и показано, было на карте, дорога прямая и широкая. Настолько широкая, что даже на джипе там делать нечего, ко всему тому и грязи по самые уши. Благо местный абориген, проходивший мимо в это время, подсказал. Не суйтесь туда ребята, вся дорога разбита и впереди два разобранных моста. Первая попытка оказалась не удачной.
Вторая попытка была в следующие выходные. Но, опять но! Вместо грязи и колеи болото, и дорога через болото идёт по гати, жиденькому такому настилу из полугнилых жёрдочек. Сунулись, было туда, воды немеренно, того и гляди, машина ухнет по самую крышу в век не вытащить. Опять ловим местного аборигена. Попался нормальный мужик, без местного перегара. Разговорились. Поведал он нам интересную историю, урочище это было раньше большим селом. Но, как и водится, все разбежались, и место пришло в упадок. Остался только церковный приход. И в году эдак, 1922 или 1924 пришли красные. Заложили взрывчатку, шандарахнули пару раз, и ушли. Приуныли мы что на развалинах делать? О битый кирпич лопату тупить? Куски кровельного железа копать? На всякий случай спросили у мужичка ну и дальше что было? А ничего, говорит, устояла, родимая! Умели прадеды строить!Мы в уме руки потираем, не зря сюда ехали, наши клады там лежат! А как туда проехать, спрашиваем. Да никак++. говорит мужичок, ежели здесь, то в болоте увязните. На всякий случай сунули ему под нос карту, может, и выйдет из этого что-то путное. Водил-водил он пальцем по карте, бормотал что-то, потом говорит: А вот тут попробуйте! - и показывает на ТРЕТИЙ намеченный нами путь! Распрощавшись, мы поехали восвояси до следующего выходного, утешая себя, что съездили сюда всё-таки не зря.
В третью, решающую субботу всё складывалось отлично. Яркое весеннее солнышко, боевое настроение. Да ещё третий в нашей компании появился, мой приятель Игорь, тоже любитель утраченной старины. Напросился на лопату, ничего говорит не надо, хочу дышать свежим воздухом. При этом выбрал самую большую лопату, это говорит для большой ямы. С большой надеждой, что в этот раз нам должно повезти больше чем в другие
выходные. Мы полные энтузиазма, не теряя времени, тронулись в путь. Третий наш путь, оказался самым простым, прямая дорога закончилась песчаным карьером. Забрав все свои немногие пожитки. Я на плечо прибор, Костя в руки ружьё, третий сотоварищ под мышку лопату, по карманам воду и бутерброды. И скоренько вышли в поход. По карте всего ничего, километра три. Прошагали их легко, через полчаса были на месте. Три полуразрушенных сарая, одичавшие яблоневые сады да крапива в рост человека вот и всё, что осталось от большого некогда села. Впереди холм, ноги сами повели туда. Поднимаясь наверх, душа пела от переполнявшего восторга от такой панорамы открывающегося по сторонам. Костя не обманул наши ожидания, было на что посмотреть, пейзаж такой, что дух захватывает! Песня! Сказка! Сразу бросалось в глаза величественная церковь, на втором холме в километре от возвышенности на которой мы стояли. Зелень одеялом укутывало всю постройку, когда-то блистающую золотыми куполами. Её величие не портили даже многочисленные шрамы, оставленные беспощадным временем. Но что самое поразительное, тишина, такое ощущение было, что даже птицы затаились в предвкушении чего-то необычного. Даже ветер стих предвещая что-то недоброе. Но мы лёгкие и беззаботные, ничего этого не чувствовали и преспокойно любовались всей этой красотой.
Пока Костя всё снимал на видео камеру, я не торопясь, достал прибор, и прошёлся по всей площадке холма. Странно, кроме ржавых банок и гвоздей, мы ничего не обнаружили. НИ ОДНОГО МОНЕТНОГО СИГНАЛА! Ну ладно, не будем отчаиваться! Уж у церкви-то находки будут обязательно! Во время блужданий по вершине холма я наткнулся на странную каменную плиту. Квадратная, примерно два на два метра, поверхность гладкая со следами обработки каким-то инструментом типа зубила. К сожалению, я не удосужился выяснить, насколько глубоко она уходит в землю. Что это и зачем она здесь я в тот момент не задумался, меня переполняло состояние опьянения от духа приключения, захватившего меня. Это уж потом я вспомнил, как мужичок наш рассказывал что-то невнятное о проклятом месте , о шабаше ведьм и прочих подобных вещах. Но у нас были более важные дела, чем задумываться над этими идеями, витавшими в воздухе. Мои мысли были на соседнем холме, у церкви, воображение рисовало горы
ценных находок! Вот она, церковь, просто рукой подать, километр какой-то пройти! Остался последний рывок! Лесок пройти и мы на месте+++
Да - а, вот она наша беспечность, наша бесшабашность. Зайти то мы, в лесок зашли++, а выйти уже не смогли. Вот тут то и начались наши самые интересные приключения. По лесу блуждали в общей сложности часов 6, натыкались то на овраги, то упирались в болота. Продирались через непролазную чащу, забирались для осмотра окрестностей на высокие деревья. И всё тщетно. Мы заблудились. Неизбежно возникли споры, в какую сторону идти. Каждый настаивал на своём направлении, разговор пошёл на повышенных тонах, нервы стали сдавать. Наконец, окончательно выбившись из сил, мы сделали то, что следовало сделать с самого начала сели и стали думать, что делать дальше. Спокойно, без истерик. И уже не помню, кто предложил, пойдёмте по старой дороге. И в самом деле, всё время нашего блуждания по лесу, наш путь постоянно пересекала старая, заросшая еле-еле видная дорога. Местами, переходящая в пролески и поляны. Кстати, на карте она тоже была указана, только мы почему-то внимания на неё не обратили. Ну что, сказано, то сделано. Итак, решение принято. Поднялись, пошли и, как только в очередной раз наткнулись на дорогу встали на неё, выбрали направление и + прошли ещё около ТРИДЦАТИ километров! Именно столько было до ближайшего населённого пункта! Но сам факт, то, что мы заблудились в трёх соснах, просто вывел нас из колеи. Описывать наш тридцатикилометровый марш-бросок не буду: и слов у меня, кроме
матерных, что-то не находится, да и зачем? Кто знает, что такое 30 км по лесной дороге тому объяснять не надо. А кто не знает пока сам не пройдёт не поймёт.
Скажу лишь, что лопату мы бросили по дороге как лишнюю тяжесть, ноги стёрли до кровавых мозолей, и гудели наши ноги ещё недели две. Песни пели, какие знали, для поддержания боевого духа. Представляете картину: идут по глухому лесу три мужика и горланят во весь голос песни советских композиторов?!
Закончилось всё + Да никак не закончилось! Вышли, конечно, в конце концов, куда надо. Но задумались. Почему это церквушка нас к себе не пускала, только на третий раз показалась и то не далась? Почему взрослые люди, не новички в лесу, да ещё с компасом, заблудились в трёх соснах ? Что за камень такой странный лежал на вершине холма? И почему не пели птицы, это весной-то? Наверно всё-таки плохие из нас кладоискатели, если не могли найти выход из дремучего леса. Хотя знающие люди сказали, после нашего рассказа. Церквушка и водила вас, потому что с корыстной целью шли, вот она к себе и не подпустила! Ну что
ж, значит не судьба! Вопросов, как всегда, больше, чем ответов. Ну, будем искать! В том числе и ответы. Попытка не пытка, ведь вместо компаса можно взять и навигатор!
Друг подарил на Новый год немецкий смертный медальон на толстой серебряной цепи. На вид ничего особенного - овальная алюминиевая пластина, разделенная на две части пунктирной просечкой. После смерти владельца медальон ломали, одну часть оставляли на трупе, другую передавали в штаб дивизии. Бывшему хозяину этой вещицы не везло просто фатально. Судя по маркировкам на медальоне, его за какую-то провинность перевели с непыльной службы по охране аэродромов люфтваффе «Flieger Horst Schutze» (Fl. H. Sch.) в запасной пехотный батальон «Infanterie Ersatz Bataillon» (Inf. ers. batl.), который в итоге весь полег у станции Погостье. Немца этого не нашли после боя - он так и остался лежать в заваленной траншее.
Получив подарок, я не придумал ничего умнее, чем надеть медальон на себя. Дальше события стали разворачиваться головокружительно. За несколько дней я, нищий студент, потерял все, что у меня было. Для начала ушла жена. Через день, перегоняя чужую ржавую «копейку» со штрафстоянки, я въехал в зад новенькой «девятки». Пока разбирался с последствиями аварии, меня отчислили из института. Из дамского общежития, где я жил нелегально, меня попросили выехать в течение трех дней на улицу. Можно было смело вешаться, но не нашлось подходящего крюка. Решение пришло во сне, неосознанно: толстая цепь, на которой висел медальон, запуталась и захлестнула шею так, что на горле остался багровый рубец. Я снял с себя от греха подальше эту любопытную вещицу с «историей», и жизнь так же резко стала налаживаться. Я многим рассказывал про этот медальон. Если мне не верили, я доставал его со словами: «На, поноси немного...»
Автор -no name.
Давно хотел написать историю об одном кладе, но получилось ее написать только сейчас. Было это на самом деле или это все ложь, не известно, но сама история не оставит вас в спокойствии. Эту байку мне рассказал мой друг кладоискатель, в то время как мы ехали на коп.
Значит было три заядливых копателя, всегда на выходные они выезжали на место поиска монет. Жили парни в городе, в обычных высотках. Так вот из соседнего подъезда выгуливая собаку, один парень видел, что копари берут приборы, кидают их в багажник, а возвращаются с добычей в руках. Этот парняга примерно знал об их хобби, но всегда боялся, толи стеснялся к ним подойти и попросить чтобы взяли с собой на коп. Но все таки рискнул. Петя, Толя, Коля (настоящих имен называть не буду) ему не отказали, назначили день недели и предложили поехать с ночевкой. Парняга естественно был очень рад.
Вот настал тот удачный день, собирая сумки, ребята взяли нового друга, еще тогда не зная что он им принесет удачу в крупных размерах. Выехали рано утром, еще было очень темно. Ехали не на абы как, а по редким старинным картам. По пути, как всегда рассказывали друг другу о находка, по молодому парню было видно как он с удовольствием слушает и его это реально зацепило.
Приехавши на место, собравши приборы, все разбежались. Парняга бегал то к одному, то к другому кладоискателю, иногда брал прибор и находил какие-то металлические находки. Но возле Толи он был подольше чем возле кого-либо другого. Наверное какое-то чутье сработало что Толя найдет клад, или просто совпадение. Места клада никому не известно. Искали приблизительно как иголку в стоге сена.
Ближе к вечеру домой шел старый пастух, за кладоискателями он наблюдал целый день. Ребятам он рассказал одну истории об одном кладе. Естественно они поначалу не поверили старику, но на следующий день по его совету пошли искать в назначенном месте кладуху.
Три друга, шли с приборами и сканировали землю, нашел то один монетку то другой. Монеты находились так часто, как будто тут ник-то не копал раньше. После того как парни набили полные карманы монет, один из «Кладоискателей» нашел клад. Для того что бы его достать, ребятам понадобилось около 3-ех часов. Раскапывали его все четырем. В итоге это вышло две спортивные сумки медных и серебряных монет.
Решили остаться еще на один день. Стало вечереть, разожгли костер, достали пару бутылок водки. Молодой начинающий кладоискатель не пил, у всех расспрашивал сколько стоит найденный клад, сколько монет там и так далее. Да и опытные кладоискатели с радостью рассказывали ему о монетах все то что знали.
Утром Петя просыпается, и сразу идет проверять найденный клад, не сон толи был вчера. Открывает багажник, и его лицо резко бледнеет, когда он видит что он пустой. Сразу разбудивши всю команду, начали Загрузка...гадать куда могли пропасть сумки из закрытого багажника машины.
Толя обвинял все пацана, говорил, что не зря тот спрашивал за сколько можно продать кладуху. Они втроем чуть не убили того парня, из-за жадности к сокровищам. И спрашивали, и угрожали, и умоляли, но молодой так и не раскололся.
История с потерянным кладом закончилась тем, что молодого пацана запугали так что он убежал в посадку и вскрыл вены. А кладоискатели сумку с монетами нашли под машиной, потом уже вспоминая что в багажник ее ни кто не клал.
Автор -no name.
Я живу в Петербурге и занимаюсь приборным поиском уже несколько лет. Каждый понедельник меня терзает простой и знакомый всем вопрос: «куда поехать копать на выходных?». Первое время, на заре моей практики, я не долго размышлял – просто брал старинные карты и сравнивал с современным атласом. Искал несуществующие селения, так называемые урочища. У нас в Ленинградской области таких мест очень много. Вторая мировая сделала свое черное дело. Можно сказать, что 25% селений были стерты с лица земли этой войной. Но велико было мое разочарование, когда за первый год поиска кладов мне не встретилось ни одного места, где бы я не нашел ямок. Даже в самых труднопроходимых местах мне попадались следы кладоискательской практики. Постепенно я немного изменил тактику выбора мест – я начал посещать урочища, состоявшие когда-то из 2-3 дворов, а не из 15-40, как раньше. И тут меня ждало разочарование. Везде ступала нога копателя, и лопата оставляла ямки. Я удалялся на сотни километров от города и нигде не мог найти «небитую» деревню. Находки конечно у меня были, ведь все мы знаем, что выбитых мест не существует. Иногда большее количество находок дарило место, которое старательно выбивается на протяжении десятка лет. Постепенно я начал вести поиск не обращая внимания на старинные карты. Просто находил красивое поле и начинал поиск. Иногда подобная тактика меня очень радовала. В местах где, судя по старинным картам 19 века, никогда ничего не было удавалось поднимать очень много очень интересных и дорогих вещей 18-20 веков. За первый выход можно было найти около 100 монет и других интересных находок. Почему в «пустом поле» удавалось найти такое скопление старинных артефактов? Эта загадка не давала мне покоя, пока я не собрал и не осмотрел еще раз внимательно все находки с таких мест. Их роднило одно интересное свойство – огромное количество мундирных пуговиц и элементов гусарского обмундирования. Все монеты были 18-19 веков. На старинных картах к этим местам вели полевые дороги, растворяющиеся посреди полей. Все оказалось очень просто. Это места расположения войск (лагерь, казарма …). Места, где проходили учения и построения, стояли бараки. Отсюда и большое количество пуговиц, элементов обмундирования, свинцовых пуль и даже пробок от шампанского «Вдова Клико». Любили гусары хорошо отдохнуть. Такие места очень радовали изобилием серебряных монет и наград, особенно ополченских крестов и наградных лент. Еще одна особенность таких мест – близкое расположение к городу. Начал работать принцип: «чем ближе к городу – тем больше хабора». Я начал более внимательно изучать историю гусарских полков и даже навестил Селищенские казармы, где проходил военную службу Михаил Юрьевич Лермонтов. Каждый раз поднимая очередную пуговку я представлял, что возможно она когда-то была на его мундире.
Автор -no name.
1997 году я с семьей в выходные отдыхал недалеко от Звенигорода на Москве реке. По описанию достопримечательностей окрестностей Звенигорода в этом месте находилась большая группа славянских курганов. Однако, приехав, мы с удивлением увидели, что на месте курганного могильника, полным ходом идет строительство коттеджей, лес спилен, вырыты котлованы, вся площадка выровнена бульдозерами. От курганов фактически ничего не осталось. Только если присмотреться, кое-где на земле видны темные пятна от стоявших, когда-то курганов. Искупавшись, пожарив шашлыки, мы уехали. Но я решил приехать сюда на следующий день и походить на стройплощадке, проверить отвалы, авось, что попадется.
На следующий день с утра я был на месте. День был выходной, редкие строители-таджики не обращали на меня внимания. Проверил отвал, другой, прибор фиксировал железки, но вот и что-то «цветное», прибор запел уверенным голосом. Проверяем, точно - бубенчик. Через некоторое время еще один, а вот прямо на земле валяется рыболовной крючок, хорошая рыба водилась, подумал, взвешивая на ладони 10- ти сантиметровый крюк. Мои поиски привлекли внимание группы отдыхающих, человек пять мужчин стояли метрах в 100 и наблюдали за мной. Один из них отделился и направился ко мне. Если ищешь в людных местах, часто подходят, спрашивают, мол, что делаешь, что за аппарат, поэтому я нисколько не удивился любопытству подошедшего. Да и выглядел этот человек вполне дружелюбно.
- Здравствуйте, -поздоровался он, - позвольте узнать, что вы делаете.
Не подозревая никаких подвохов, я рассказал ему, что в этом месте жили славяне, а тут находился могильник, курганы снесли, вот хожу, надеюсь найти то, что осталось.Показал ему находки, бубенчики, крючок. Мужчина явно заинтересовался, спросил, а для чего это мне. На этот вопрос трудно ответить, хобби. Разговорились, собеседник настойчиво интересуется, а куда я вещи дену, сколько они стоят. Пожимаю плечами, отсылаю его на вернисаж в Измайлово. За настойчивостью прохожего проглядывается не праздное любопытство, а что-то еще. Это «еще», я в полной мере ощутил, спустя пару часов, в звенигородском отделении милиции. Наконец назойливый мужчина уходит, оставляя у меня в душе какое то смутное подозрение, уж больно он дотошно выспрашивал, сколько это стоит, и куда я это дену.
Походив еще минут двадцать, я собрался и поехал домой. Вырулив, с проселка на шоссе увидел милицейский Уазик, милиционер, махнув жезлом,
остановил меня. Угрюмо проверил документы, попросил выйти из машины и добровольно выдать оружие. Диалог был примерно таким:
- Оружие есть?
- Нет.
- Антиквариат есть?
- А что, антиквариат, тоже запрещен?
- Тебя спрашивают, есть или нет?
- Есть, вот два бубенчика.
- А это что?
- Металлоискатель.
- Разрешение есть?
- А разве нужно?
- Следуйте за нами.
Ко мне в машину залез огромный, толстый сержант с автоматом, и мы поехали вслед за Уазиком.Приехав в Звенигород, завернули во двор отделения милиции. Дежурный объявил, что я задержан, есть заявление от некого Чернова С.З., о том, что я уничтожил курганный могильник (больше сотни насыпей), используя, при этом металлоискатель. И мне придется отвечать за сие противоправное деяние. С меня взяли показания, конфисковали металлоискатель и отпустили, взяв подписку о том, что я немедленно прибуду, когда вызовут. Грустный я покидал это заведение, каково же было мое удивление, когда я увидел на втором этаже того самого «прохожего», который допытывался у меня о судьбе вещей. Он эмоционально говорил, что-то дежурному следователю, размахивая руками. Увидев меня, прохожий юркнул на лестницу и был таков.
Понимая, что спасение утопающего дело рук самого утопающего, я, буквально, на следующий день организовал целую экспедицию к «разрушенному мной могильнику». Взял видеокамеру, снял стройку, снял котлованы, бульдозеры. Удалось взять интервью у строителей, которые честно рассказали, что «холмики» (курганы) которые тут были, снесли бульдозером еще месяца два назад. Дня через три раздался звонок, звонили из Одинцовского управления внутренних дел. Приехал. Молодой дознаватель ознакомил меня с заявлением г-на Чернова С.З.. Я в ответ рассказал все, как было, предложил поехать на место совершенного преступления и убедиться в моих словах самому, что мы и сделали. Не буду тратить бумагу на описание формальностей, которые необходимо было соблюсти, мне пришлось ездить в Одинцово еще не раз. Но, спасибо, дознавателю, он подошел объективно, и в возбуждении уголовного дела было отказано.После всех этих перипетий я узнал, что г-н Чернов нашел общий язык с хозяевами коттеджей. И перестал бузить, а дабы совсем уладить конфликт, нанялся восстанавливать уничтоженные насыпи, вероятно не бесплатно. Передо мной он даже не извинился, не говоря уже о том, чтобы как-то компенсировать моральный и материальный ущерб.
Автор -no name.
Первый год моих приключений в поисках утраченных древностей, начался, как и подобает истинному поисковику, фактически с нуля. Эта история ещё раз подтверждает то ошибочное мнение начинающих кладоискателей, что все клады должны течь к нам рекой, только подставляй руки, и они будут сыпаться не переставая.
А начну с того+++. как-то, одним ранним днём, на заре своего похождения за кладами, я встретил своего давнего друга Костика. Заядлого рыболова, охотника, путешественника и также любителя всего неизведанного и тайного. Так как мы встречаемся, не слишком часто, то поговорить нам было о чём. Мы всегда находили общие темы. Поведал я ему что, крыша у меня немного съехала, купил металлоискатель и хожу по полям и лесам в поисках ненайденных кладов.
Костик парень заводной, компанейский. Сразу проникся интересом к поиску земельных сокровищ. И рассказал такую историю, что, как-то охотясь с друзьями на птицу, забрёл в одно интересное место. Посреди леса и болот, находится заброшенное урочище. На двух холмах. Но так как его самого туда водили, и было это зимой, ему жутко захотелось сходить туда ещё раз и осмотреть всё подробно, сфотографировать и снять на видео. А притом что у меня оказался металлодетектор, то сам Бог велел там поискать что-нибудь ценное! Всё! Решено! Едем! Решили мы. И договорившись, встретится вечером, и обсудить всю поездку досконально. Вечер ещё не наступил, а мы уже склонились над картой этого места, водя пальцем по указанным дорогам. Место и правда интересное посреди леса поляна, а на поляне чёрный крестик стоит, прямо обозначение копать здесь ! Решили для начала разведать все пути дороги, ведущие в пункт назначения. У друга джип Toyota, у нас не возникало вопросов, на чём нам ехать. Уточнили, что с собой брать, и стали дожидаться ближайших выходных. Эти дни просидели как на иголках, всё представлялось, как мы достаём из земли все церковные сокровища. Не один раз возникала мысль Когда же, наконец, суббота?! .
Ну, вот и наступил долгожданный день, цели нашего путешествия. Прихватив с собой прибор и ружьё, кое, что и съестного мы скоренько тронулись в путь. По дороге долго спорили, как и куда лучше ехать, суду по карте к этому месту вели три тропы называемые дорогами. Порешили на том, что нам как раз подойдёт самый кратчайший путь. Но не тут-то и было. На первом пути, как и показано, было на карте, дорога прямая и широкая. Настолько широкая, что даже на джипе там делать нечего, ко всему тому и грязи по самые уши. Благо местный абориген, проходивший мимо в это время, подсказал. Не суйтесь туда ребята, вся дорога разбита и впереди два разобранных моста. Первая попытка оказалась не удачной.
Вторая попытка была в следующие выходные. Но, опять но! Вместо грязи и колеи болото, и дорога через болото идёт по гати, жиденькому такому настилу из полугнилых жёрдочек. Сунулись, было туда, воды немеренно, того и гляди, машина ухнет по самую крышу в век не вытащить. Опять ловим местного аборигена. Попался нормальный мужик, без местного перегара. Разговорились. Поведал он нам интересную историю, урочище это было раньше большим селом. Но, как и водится, все разбежались, и место пришло в упадок. Остался только церковный приход. И в году эдак, 1922 или 1924 пришли красные. Заложили взрывчатку, шандарахнули пару раз, и ушли. Приуныли мы что на развалинах делать? О битый кирпич лопату тупить? Куски кровельного железа копать? На всякий случай спросили у мужичка ну и дальше что было? А ничего, говорит, устояла, родимая! Умели прадеды строить!Мы в уме руки потираем, не зря сюда ехали, наши клады там лежат! А как туда проехать, спрашиваем. Да никак++. говорит мужичок, ежели здесь, то в болоте увязните. На всякий случай сунули ему под нос карту, может, и выйдет из этого что-то путное. Водил-водил он пальцем по карте, бормотал что-то, потом говорит: А вот тут попробуйте! - и показывает на ТРЕТИЙ намеченный нами путь! Распрощавшись, мы поехали восвояси до следующего выходного, утешая себя, что съездили сюда всё-таки не зря.
В третью, решающую субботу всё складывалось отлично. Яркое весеннее солнышко, боевое настроение. Да ещё третий в нашей компании появился, мой приятель Игорь, тоже любитель утраченной старины. Напросился на лопату, ничего говорит не надо, хочу дышать свежим воздухом. При этом выбрал самую большую лопату, это говорит для большой ямы. С большой надеждой, что в этот раз нам должно повезти больше чем в другие
выходные. Мы полные энтузиазма, не теряя времени, тронулись в путь. Третий наш путь, оказался самым простым, прямая дорога закончилась песчаным карьером. Забрав все свои немногие пожитки. Я на плечо прибор, Костя в руки ружьё, третий сотоварищ под мышку лопату, по карманам воду и бутерброды. И скоренько вышли в поход. По карте всего ничего, километра три. Прошагали их легко, через полчаса были на месте. Три полуразрушенных сарая, одичавшие яблоневые сады да крапива в рост человека вот и всё, что осталось от большого некогда села. Впереди холм, ноги сами повели туда. Поднимаясь наверх, душа пела от переполнявшего восторга от такой панорамы открывающегося по сторонам. Костя не обманул наши ожидания, было на что посмотреть, пейзаж такой, что дух захватывает! Песня! Сказка! Сразу бросалось в глаза величественная церковь, на втором холме в километре от возвышенности на которой мы стояли. Зелень одеялом укутывало всю постройку, когда-то блистающую золотыми куполами. Её величие не портили даже многочисленные шрамы, оставленные беспощадным временем. Но что самое поразительное, тишина, такое ощущение было, что даже птицы затаились в предвкушении чего-то необычного. Даже ветер стих предвещая что-то недоброе. Но мы лёгкие и беззаботные, ничего этого не чувствовали и преспокойно любовались всей этой красотой.
Пока Костя всё снимал на видео камеру, я не торопясь, достал прибор, и прошёлся по всей площадке холма. Странно, кроме ржавых банок и гвоздей, мы ничего не обнаружили. НИ ОДНОГО МОНЕТНОГО СИГНАЛА! Ну ладно, не будем отчаиваться! Уж у церкви-то находки будут обязательно! Во время блужданий по вершине холма я наткнулся на странную каменную плиту. Квадратная, примерно два на два метра, поверхность гладкая со следами обработки каким-то инструментом типа зубила. К сожалению, я не удосужился выяснить, насколько глубоко она уходит в землю. Что это и зачем она здесь я в тот момент не задумался, меня переполняло состояние опьянения от духа приключения, захватившего меня. Это уж потом я вспомнил, как мужичок наш рассказывал что-то невнятное о проклятом месте , о шабаше ведьм и прочих подобных вещах. Но у нас были более важные дела, чем задумываться над этими идеями, витавшими в воздухе. Мои мысли были на соседнем холме, у церкви, воображение рисовало горы
ценных находок! Вот она, церковь, просто рукой подать, километр какой-то пройти! Остался последний рывок! Лесок пройти и мы на месте+++
Да - а, вот она наша беспечность, наша бесшабашность. Зайти то мы, в лесок зашли++, а выйти уже не смогли. Вот тут то и начались наши самые интересные приключения. По лесу блуждали в общей сложности часов 6, натыкались то на овраги, то упирались в болота. Продирались через непролазную чащу, забирались для осмотра окрестностей на высокие деревья. И всё тщетно. Мы заблудились. Неизбежно возникли споры, в какую сторону идти. Каждый настаивал на своём направлении, разговор пошёл на повышенных тонах, нервы стали сдавать. Наконец, окончательно выбившись из сил, мы сделали то, что следовало сделать с самого начала сели и стали думать, что делать дальше. Спокойно, без истерик. И уже не помню, кто предложил, пойдёмте по старой дороге. И в самом деле, всё время нашего блуждания по лесу, наш путь постоянно пересекала старая, заросшая еле-еле видная дорога. Местами, переходящая в пролески и поляны. Кстати, на карте она тоже была указана, только мы почему-то внимания на неё не обратили. Ну что, сказано, то сделано. Итак, решение принято. Поднялись, пошли и, как только в очередной раз наткнулись на дорогу встали на неё, выбрали направление и + прошли ещё около ТРИДЦАТИ километров! Именно столько было до ближайшего населённого пункта! Но сам факт, то, что мы заблудились в трёх соснах, просто вывел нас из колеи. Описывать наш тридцатикилометровый марш-бросок не буду: и слов у меня, кроме
матерных, что-то не находится, да и зачем? Кто знает, что такое 30 км по лесной дороге тому объяснять не надо. А кто не знает пока сам не пройдёт не поймёт.
Скажу лишь, что лопату мы бросили по дороге как лишнюю тяжесть, ноги стёрли до кровавых мозолей, и гудели наши ноги ещё недели две. Песни пели, какие знали, для поддержания боевого духа. Представляете картину: идут по глухому лесу три мужика и горланят во весь голос песни советских композиторов?!
Закончилось всё + Да никак не закончилось! Вышли, конечно, в конце концов, куда надо. Но задумались. Почему это церквушка нас к себе не пускала, только на третий раз показалась и то не далась? Почему взрослые люди, не новички в лесу, да ещё с компасом, заблудились в трёх соснах ? Что за камень такой странный лежал на вершине холма? И почему не пели птицы, это весной-то? Наверно всё-таки плохие из нас кладоискатели, если не могли найти выход из дремучего леса. Хотя знающие люди сказали, после нашего рассказа. Церквушка и водила вас, потому что с корыстной целью шли, вот она к себе и не подпустила! Ну что
ж, значит не судьба! Вопросов, как всегда, больше, чем ответов. Ну, будем искать! В том числе и ответы. Попытка не пытка, ведь вместо компаса можно взять и навигатор!
-
pioneer

- Старожил

- Сообщений: 777
- Стаж: 6 лет 6 месяцев
- Имя: Лёха
- Местонахождение: Свияжское воеводство
- Благодарил (а): 291 раз
- Поблагодарили: 1118 раз
Автор -no name.
Друг у меня есть типа археолог, некоторые их ещё называют "Чёрные копатели" (ищут медали, армейсие жетоны и остальное со времён второй мировой) но всё официально оформлено. Далее от имени друга:
- Очередной поход, как всегда взяли канистру коньяка, днём раскопки, а вечером пьянка, в общем уклюкались почти все и вот мне приспичило по маленькому. Зашёл я за дерево, стою журчу, посвистываю и тут мне сзади "Хэенде хох" я оборачиваюсь и вижу перед собой фрица!!! Самого что ни на есть настоящего фрица, в каске, форме и с Люггером !!! Сказать что я пересрался ничего не сказать, пулей из кустов полетел мужикам говорить, те естественно не поверили, мол белку схватил. А на утро всё же решили проверить, в итоге в трёх километрах от нас ролевики развлекались блеать, убил бы идиотов)))
Автор -no name.
Автор: "Замечательный человек и мой друг архитектор позвонил мне вчера с просьбой избавить его соседку по поселку художников от старинных кресел, которые не вписывались в новый интерьер. К вечеру остатки старины из ее дома оказались на складе, а сегодня я решил рассмотреть повнимательней приобретенные вещи. Большое ореховое кресло несколько лет назад перебивали, но спинку не трогали. Потрогал ее я. Мягкая спереди спинка оказалась подозрительно тверда сзади. Первая мысль была, что картон для жесткости положили, но больно это странно... Надо резать! Через минуту мне открылись 25 рублевые советские банкноты пришитые веревками к обивочной ткани и проложенные соломой. Вся спинка по периметру была забита деньгами!
Достав эту кучу, я отсчитал 100 банкнот, которые являлись на глаз 1/20 общей массы, соответственно, в кресле было около 50000 советских рублей! Найти бы их лет 30 назад... Ведь хозяйка жила с этим креслом всю жизнь, и понятия не имела, что кто-то из родни спрятал в нем заначку. На лицо глупость владельца этих денег и явное хищение социалистической собственности:)
Самый ценный и при этом самый бесполезный клад, что я находил..."
Мне кажется,что человек который спрятал эти деньги был поклонником романа "12 стульев".
С просторов интернета...
Автор -no name.
Значит было три заядливых копателя, всегда на выходные они выезжали на место поиска монет. Жили парни в городе, в обычных высотках. Так вот из соседнего подъезда выгуливая собаку, один парень видел, что копари берут приборы, кидают их в багажник, а возвращаются с добычей в руках. Этот парняга примерно знал об их хобби, но всегда боялся, толи стеснялся к ним подойти и попросить чтобы взяли с собой на коп. Но все таки рискнул. Петя, Толя, Коля (настоящих имен называть не буду) ему не отказали, назначили день недели и предложили поехать с ночевкой. Парняга естественно был очень рад.
Вот настал тот удачный день, собирая сумки, ребята взяли нового друга, еще тогда не зная что он им принесет удачу в крупных размерах. Выехали рано утром, еще было очень темно. Ехали не на абы как, а по редким старинным картам. По пути, как всегда рассказывали друг другу о находка, по молодому парню было видно как он с удовольствием слушает и его это реально зацепило.
Приехавши на место, собравши приборы, все разбежались. Парняга бегал то к одному, то к другому кладоискателю, иногда брал прибор и находил какие-то металлические находки. Но возле Толи он был подольше чем возле кого-либо другого. Наверное какое-то чутье сработало что Толя найдет клад, или просто совпадение. Места клада никому не известно. Искали приблизительно как иголку в стоге сена.
Ближе к вечеру домой шел старый пастух, за кладоискателями он наблюдал целый день. Ребятам он рассказал одну истории об одном кладе. Естественно они поначалу не поверили старику, но на следующий день по его совету пошли искать в назначенном месте кладуху.
Три друга, шли с приборами и сканировали землю, нашел то один монетку то другой. Монеты находились так часто, как будто тут ник-то не копал раньше. После того как парни набили полные карманы монет, один из «Кладоискателей» нашел клад. Для того что бы его достать, ребятам понадобилось около 3-ех часов. Раскапывали его все четырем. В итоге это вышло две спортивные сумки медных и серебряных монет.
Решили остаться еще на один день. Стало вечереть, разожгли костер, достали пару бутылок водки. Молодой начинающий кладоискатель не пил, у всех расспрашивал сколько стоит найденный клад, сколько монет там и так далее. Да и опытные кладоискатели с радостью рассказывали ему о монетах все то что знали.
Утром Петя просыпается, и сразу идет проверять найденный клад, не сон толи был вчера. Открывает багажник, и его лицо резко бледнеет, когда он видит что он пустой. Сразу разбудивши всю команду, начали Загрузка...гадать куда могли пропасть сумки из закрытого багажника машины.
Толя обвинял все пацана, говорил, что не зря тот спрашивал за сколько можно продать кладуху. Они втроем чуть не убили того парня, из-за жадности к сокровищам. И спрашивали, и угрожали, и умоляли, но молодой так и не раскололся.
История с потерянным кладом закончилась тем, что молодого пацана запугали так что он убежал в посадку и вскрыл вены. А кладоискатели сумку с монетами нашли под машиной, потом уже вспоминая что в багажник ее ни кто не клал.
Автор -no name.
Хочу вам рассказать один рассказ кладоискателя, эту историю рассказал мне тот же парень, который рассказал историю про земляного деда. Вы не подумайте что он любит травить байки после второй. Нет! Это все было на трезвую голову вечером у костра за чаем.
После того как я услышал, мне стало реально страшно. Я ночью боялся посмотреть на свою немецкую каску, которую давно нашел. Помню даже было желание ее продать, но стало жалко и я ее оставил себе, но пока спрятал.
Значит было это давно, имен парней не назвал. Были три друга, жили в деревне. Перспектив в ней конечно же нету. Так вот, эти парни вокруг свой деревни, ночью, откапывали солдатские могилы, грабили курганы. Черный метал сдавали, что-то ценное кому-то продавали.
Так вот, в одну ночь, три этих друга, опять собирались на свое черное дело. Один из парней, не захотел с ними пойти, пил водку.
Пил, пил, пока во дворе не загавкали собаки. Говорит «мам, иди глянь что там». Ну значит вышла она на улицу, видит солдат стоит, который ей говорит «мать, сына позови». Мать этого парня знала чем он занимается, поэтому от увиденного потеряла сознания.
Когда парень после очередной порции водки понял что его мать долго не приходит, решил выйти проверит. Что этот парень увидел пред смертью, стоит только догадываться. Но его тело нашли соседи, с выстрелом в голову.
Тех двух парней, нашли жестоко в лесу убитых. Кто над ними так поиздевался, остается только догадываться. Так хочу этот рассказ кладоискателязакончить тем, что бы люди не занимались черной археологией. Ходить с медалодетктором по лесу и искать монеты или военный настрел это одно, а раскапывать солдатские могилы и курганы это другое.
Давайте уважать наших дедов, благодаря которым мы сейчас живем. И спасибо моему другу поисковику, за этот прекрасный рассказ кладоискателя.
Друг у меня есть типа археолог, некоторые их ещё называют "Чёрные копатели" (ищут медали, армейсие жетоны и остальное со времён второй мировой) но всё официально оформлено. Далее от имени друга:
- Очередной поход, как всегда взяли канистру коньяка, днём раскопки, а вечером пьянка, в общем уклюкались почти все и вот мне приспичило по маленькому. Зашёл я за дерево, стою журчу, посвистываю и тут мне сзади "Хэенде хох" я оборачиваюсь и вижу перед собой фрица!!! Самого что ни на есть настоящего фрица, в каске, форме и с Люггером !!! Сказать что я пересрался ничего не сказать, пулей из кустов полетел мужикам говорить, те естественно не поверили, мол белку схватил. А на утро всё же решили проверить, в итоге в трёх километрах от нас ролевики развлекались блеать, убил бы идиотов)))
Автор -no name.
Автор: "Замечательный человек и мой друг архитектор позвонил мне вчера с просьбой избавить его соседку по поселку художников от старинных кресел, которые не вписывались в новый интерьер. К вечеру остатки старины из ее дома оказались на складе, а сегодня я решил рассмотреть повнимательней приобретенные вещи. Большое ореховое кресло несколько лет назад перебивали, но спинку не трогали. Потрогал ее я. Мягкая спереди спинка оказалась подозрительно тверда сзади. Первая мысль была, что картон для жесткости положили, но больно это странно... Надо резать! Через минуту мне открылись 25 рублевые советские банкноты пришитые веревками к обивочной ткани и проложенные соломой. Вся спинка по периметру была забита деньгами!
Достав эту кучу, я отсчитал 100 банкнот, которые являлись на глаз 1/20 общей массы, соответственно, в кресле было около 50000 советских рублей! Найти бы их лет 30 назад... Ведь хозяйка жила с этим креслом всю жизнь, и понятия не имела, что кто-то из родни спрятал в нем заначку. На лицо глупость владельца этих денег и явное хищение социалистической собственности:)
Самый ценный и при этом самый бесполезный клад, что я находил..."
Мне кажется,что человек который спрятал эти деньги был поклонником романа "12 стульев".
С просторов интернета...
Автор -no name.
Значит было три заядливых копателя, всегда на выходные они выезжали на место поиска монет. Жили парни в городе, в обычных высотках. Так вот из соседнего подъезда выгуливая собаку, один парень видел, что копари берут приборы, кидают их в багажник, а возвращаются с добычей в руках. Этот парняга примерно знал об их хобби, но всегда боялся, толи стеснялся к ним подойти и попросить чтобы взяли с собой на коп. Но все таки рискнул. Петя, Толя, Коля (настоящих имен называть не буду) ему не отказали, назначили день недели и предложили поехать с ночевкой. Парняга естественно был очень рад.
Вот настал тот удачный день, собирая сумки, ребята взяли нового друга, еще тогда не зная что он им принесет удачу в крупных размерах. Выехали рано утром, еще было очень темно. Ехали не на абы как, а по редким старинным картам. По пути, как всегда рассказывали друг другу о находка, по молодому парню было видно как он с удовольствием слушает и его это реально зацепило.
Приехавши на место, собравши приборы, все разбежались. Парняга бегал то к одному, то к другому кладоискателю, иногда брал прибор и находил какие-то металлические находки. Но возле Толи он был подольше чем возле кого-либо другого. Наверное какое-то чутье сработало что Толя найдет клад, или просто совпадение. Места клада никому не известно. Искали приблизительно как иголку в стоге сена.
Ближе к вечеру домой шел старый пастух, за кладоискателями он наблюдал целый день. Ребятам он рассказал одну истории об одном кладе. Естественно они поначалу не поверили старику, но на следующий день по его совету пошли искать в назначенном месте кладуху.
Три друга, шли с приборами и сканировали землю, нашел то один монетку то другой. Монеты находились так часто, как будто тут ник-то не копал раньше. После того как парни набили полные карманы монет, один из «Кладоискателей» нашел клад. Для того что бы его достать, ребятам понадобилось около 3-ех часов. Раскапывали его все четырем. В итоге это вышло две спортивные сумки медных и серебряных монет.
Решили остаться еще на один день. Стало вечереть, разожгли костер, достали пару бутылок водки. Молодой начинающий кладоискатель не пил, у всех расспрашивал сколько стоит найденный клад, сколько монет там и так далее. Да и опытные кладоискатели с радостью рассказывали ему о монетах все то что знали.
Утром Петя просыпается, и сразу идет проверять найденный клад, не сон толи был вчера. Открывает багажник, и его лицо резко бледнеет, когда он видит что он пустой. Сразу разбудивши всю команду, начали Загрузка...гадать куда могли пропасть сумки из закрытого багажника машины.
Толя обвинял все пацана, говорил, что не зря тот спрашивал за сколько можно продать кладуху. Они втроем чуть не убили того парня, из-за жадности к сокровищам. И спрашивали, и угрожали, и умоляли, но молодой так и не раскололся.
История с потерянным кладом закончилась тем, что молодого пацана запугали так что он убежал в посадку и вскрыл вены. А кладоискатели сумку с монетами нашли под машиной, потом уже вспоминая что в багажник ее ни кто не клал.
Автор -no name.
Хочу вам рассказать один рассказ кладоискателя, эту историю рассказал мне тот же парень, который рассказал историю про земляного деда. Вы не подумайте что он любит травить байки после второй. Нет! Это все было на трезвую голову вечером у костра за чаем.
После того как я услышал, мне стало реально страшно. Я ночью боялся посмотреть на свою немецкую каску, которую давно нашел. Помню даже было желание ее продать, но стало жалко и я ее оставил себе, но пока спрятал.
Значит было это давно, имен парней не назвал. Были три друга, жили в деревне. Перспектив в ней конечно же нету. Так вот, эти парни вокруг свой деревни, ночью, откапывали солдатские могилы, грабили курганы. Черный метал сдавали, что-то ценное кому-то продавали.
Так вот, в одну ночь, три этих друга, опять собирались на свое черное дело. Один из парней, не захотел с ними пойти, пил водку.
Пил, пил, пока во дворе не загавкали собаки. Говорит «мам, иди глянь что там». Ну значит вышла она на улицу, видит солдат стоит, который ей говорит «мать, сына позови». Мать этого парня знала чем он занимается, поэтому от увиденного потеряла сознания.
Когда парень после очередной порции водки понял что его мать долго не приходит, решил выйти проверит. Что этот парень увидел пред смертью, стоит только догадываться. Но его тело нашли соседи, с выстрелом в голову.
Тех двух парней, нашли жестоко в лесу убитых. Кто над ними так поиздевался, остается только догадываться. Так хочу этот рассказ кладоискателязакончить тем, что бы люди не занимались черной археологией. Ходить с медалодетктором по лесу и искать монеты или военный настрел это одно, а раскапывать солдатские могилы и курганы это другое.
Давайте уважать наших дедов, благодаря которым мы сейчас живем. И спасибо моему другу поисковику, за этот прекрасный рассказ кладоискателя.
-
pioneer

- Старожил

- Сообщений: 777
- Стаж: 6 лет 6 месяцев
- Имя: Лёха
- Местонахождение: Свияжское воеводство
- Благодарил (а): 291 раз
- Поблагодарили: 1118 раз
Автор - И. О. Отступник
Рассказ -Спорщики
Жили-были два приятеля Олег и Константин. Еще в школе, бывало, сидят за одной партой – друзья не разлей вода, а вдруг заспорят по пустяку, до того дело порою доходило, что на переменке в туалете мутузят друг друга, на кулаках – всяк свою сторону отстаивает. После стычки разойдутся по разным углам, и каждый ни о чем другом думать не может, кроме того, как свою правоту доказать. На почве споров своих и мирились быстро, иначе как дискуссию продолжишь? Но эти споры у друзей были особого сорта. Если один другому свою правоту делом доказывает, второй соглашается и со всем азартом начинает помогать своему приятелю в том самом деле, против которого недавно на кулаках бился. Таких спорщиков редко повстречаешь. Перечислять все их детские споры ни времени, ни бумаги не хватит, но выросли ребята, привычки свои прежние оставив, вот когда интересные дела пошли.
Стали Олег с Константином почти взрослыми, все, как положено: на вечеринки вместе ходили, за девчонками ухлестывали. Только каждый на чеку был, в любую минуту заспорить готов. Вот как-то раз зашел у них как-то меж собой разговор о кладоискательстве. Олег горячился и шумел: «Вот, мол, дело прибыльное. Сколько в нашей стране всего позарыто. Нигде больше такого не найти, столько революций да перестроек всяких, как у нас совершалось!» Константин тоже вскипать начинает: «Что ты ерунду тут городишь? Какие сокровища у нищего народа? Посмотри, что у крестьян было? Золото? Нет. Одни пятаки медные. Этим делом не прокормишься. Ты это запомни». Может быть, и подрались бы в тот вечер друзья в очередной раз – дело уж к тому шло – только их разняли.
Получилось, что Косте в армию повестку вручили, и пошел он служить на границу китайскую. Олег же поступил в институт, да учился он не то чтобы прилежно, а как придется, времени много тратил на поиски всяких редкостей. Кто разумеет суть поискового дела, тот поймет, что удачливость и упорство всегда прокормят. Иногда и Олегу везло, упорства у него с детства не занимать было. Случилось так, что забросил он учебу и остановил свой выбор на кладоискательстве. За те два года, что Костя собак дрессировал на границе, Олег настоящим профессионалом стал. Не то чтобы разбогател, но на жизнь ему с лихвой хватало.
Срок службы у Константина вышел, вернулся на гражданку, друга своего первым делом проведать пришел, как тот живет, узнать. Поговорили о житье-бытье. Костя и заявляет: «Убедил ты меня, корешок. Дело у тебя, хоть и не очень выгодное, но все же прибыльное, интересное, а я тем временем на границе выучился зверей дрессировать. Цирк свой звериный хочу устроить». «Да где же ты тигров и львов достанешь? А дрессировкой собак не прокормишься. Этим делом многие занимаются. Разве что свиней начнешь учить». Горячиться стал Костя: «Да я любого зверя обучу, чего хочешь, делать». «Ну что, например?» «А хоть твои клады искать научу». «Ха-ха, – смеется Олег. – Да разве животных можно научить монеты искать? Наркотики находить – понятно, собаку сперва наркоманом сделают, вот она и старается, ищет. А как ты ее нумизматом сделаешь? Это ты уж через край махнул. Вот слышал я как-то байку, что свинья однажды кубышку рылом выкопала, так ведь это случайно». «Вот увидишь, собаки мои будут искать, а свиньи будут копать. Я же в сторонке буду сидеть и ими командовать. Посмотришь». Спор дальше продолжался, снова, как в былые времена, дело к драке шло, но видно повзрослели ребята, поумнели, дружбу больше ценить стали. Разошлись миром. Вот как-то при случайной встрече Олег и спрашивает у своего товарища: «Ну, что твои звери? Выдрессировал? Готов их мне в помощники рекомендовать?» «Погоди маленько. Скоро я тебе их в аренду сдам». Смеется Олег: «Долго мне ждать помощников. Ну, да ладно, потерплю ».
Вот однажды звонит Костя Олегу по телефону и говорит: «Готово, артисты для представления созрели. Хочу работу их тебе показать». «Ладно, пускай на огороде фокусы твои звери покажут». «Нет уж. Представление должно быть по всем правилам. Ты мне место хорошее подбери, где клады можно поискать». «Да я ведь никогда наверняка не знаю мест таких. Предположить могу – только и всего. А что если там, где представление устраивать будешь, ничего на самом деле нет?» «Не получится в одном месте, будем в другом проверять. Хорошая дрессура наружу завсегда вылезет. Вот увидишь. Только ты лопату не бери, будешь за мной мешок сухарей таскать, а за землекопов мои питомцы поработают».
Вот выбрали время, встретились на заброшенном хуторе. Олег как увидел питомцев Костиных, так и присвистнул. Одна лохматая собачонка и две хрюшки. Стал смеяться. Костя внимания не обращает, готовит своих зверей к работе. Перед собачонкой разложил предметы медные и бронзовые, да кусочек серебряной проволоки почерневшей положил. Свинок привязал к дереву, собачку на поводок взял, и начал кругами вокруг хутора ходить. Пес землю нюхает, поводок тянет. Время от времени садится, морду вверх поднимет, воздух понюхает и опять под корнями травы да опавшими листьями носом елозит. Минут двадцать всюду Костю на поводке таскал. Но вот песик нашел место какое-то. Сел, хвостом завилял и давай лаять заливисто. Костя его с поводка спустил. Пес сразу когтями землю царапать начал с лаем и визгом, будто крысу в норе учуял. Кричит Костя приятелю: «Отвязывай хрюшек!» Отвязал Олег свиней, те галопом к собаке бегут. Отогнали лохматого от места, помеченного когтями, и начали рылами своими, как ковшами, землю разгребать. Пес вокруг бегает, тявкает. Зрелище уморительное. Олег хохочет, по земле катается. Костя стоит серьезно, поводком по сапогу похлопывает – следит за работой. Так минут пятнадцать-двадцать свиньи копали. Потом как по команде из ямы вылезли и к Косте подбегают. А собачка в яму прыгнула, только хвост торчит, лает в яме. Смеется Олег: «Накопал твой Шарик крысу, не иначе». А Костя ему в ответ: «Тащи сюда сухари. Будем награды работникам раздавать». Поднес Олег сухари к яме, глядит на Шарика, который хвостом в яме пыль подымает, а возле передних лап собаки, канделябр медный, весь зеленью покрытый. «Вот это да! – говорит Олег. – Глазам не верю».
Через некоторое время они опять по прежней системе на охоту отправились. Костя рассказывает: «Эта бригада целый день работать может. Знай, сухарики после удачи выдавай». И в самом деле, до вечера звериная бригада десяток ям вырыла. Самый крупный улов – жестянка со старинными монетами. По дороге домой Олег уже с восторгом слушал рассказ Кости о его пути достижения успеха. «Самым трудным было найти собаку подходящую и наладить дрессуру. Я уже начал думать, что не чуют собаки запахов разных металлов из-под земли. Решил переключиться на хрюшек. Ведь байки-то ходят, сам знаешь. Покупать свиней не хотел. Одно предприятие мне их на откорм выдало. Вот тут и Шарик появился. Иду заниматься со свиньями в огород, а Шарик, пес хозяйский, под ногами вертится. Я свиней как натаскивать собирался? Желуди вместе с монетами закапывал. Свиньи желуди выкапывают хорошо, а вот на одни монеты их «настроить» никак не удается. Пес во время занятий все время рядом. И, видно, понял смысл игры. Стал наперегонки со свиньями желуди с монетами разыскивать. Да так ловко у него получается – в десять раз быстрее, чем у свиней. Тут я решил попробовать усложнить Шарику задачу. а свинок пока не привлекать к поисковым работам. пускай они в «копателях» походят. Теперь давай попробуем, Олег, вместе зарабатывать. Мне таких хрюшек на убой, сам понимаешь, отдавать жалко, Шарика хочу выкупить. а хозяин цену заламывает».
Стали на пару приятели работать. Дело скоро пошло. Заметили их работу другие люди, которые поисками занимаются. Заказы на дрессированных животных поступать начали. Организовали товарищи что-то вроде звериной школы. Конечно, Костя числился главным дрессировщиком, он построил дело так, что зверье само друг у друга манеры поисковые перенимало. Стал дрессировщик использовать другие виды зверей. Прошла пора споров – работы хоть отбавляй – всяк своим делом занимается. Костя в своих экспериментах брался обучать лишь тех животных, которые специальные тесты, им же придуманные, проходили. Секретами своими не очень-то делился, поэтому конкурировать с ним никто не мог, хоть на их ферме любознательного народа всегда много было. Костя говорил зевакам так: «Поймете сами технологию мою – пожалуйста, а говорить ничего не буду». Если бы очередного спора не вышло, глядишь, и вовсе забогатели бы друзья.
Но опять случилась между ними размолвка. Как-то раз Олег возьми и брякни: «Жаль, золото в земле не пахнет. Оно, конечно, попадается в кубышках, где другие металлы окислами себя проявляют. А так, чтобы самородное золото твои четвероногие искали, такого, видно, никогда не устроить». Задумался Костя и говорит: «Если хорошенько поразмыслить, и эту задачу решить можно. В животных способностей нераскрытых еще много». «Брось, – говорит Олег. – Благородные металлы не дадут запаха твоим искателям и голову морочить нечего». «Да нет, придумать что-нибудь можно», – настаивает Костя. И пошло-поехало по старой схеме. Два дня спорили, три дня не разговаривали.
Дела их фирмы пошатнулись, распродали приятели тогда своих дрессированных тварей, только Шарика Костя себе оставил. Деньги поделили и разошлись, как в море корабли. Олег опять клады копает, а Костя куда-то на восток подался. Три года от него ни слуху, ни духу не было. Олег уже жалеть стал, что такой серьезный разговор с другом получился. Да, видно, делать нечего – разошлись их дороги.
Вот однажды по весне получает Олег письмо из далекого сибирского поселка от своего старого друга. В письме сказано: так, мол, и так. Приезжай, дружище, помогай. Стал я, мол, старателем. Золотишко мою, дело идет потихоньку. Помощник нужен – один уже не управляюсь. Обрадовался Олег, что старая дружба продолжается. Собрал свой промысловый инструмент и отправился по указанному в письме адресу. Долго добирался до места. Добрался, наконец. Последние пятнадцать верст пешком пришлось идти.
Встретились друзья, обнялись, о житье говорить стали. Олег спрашивает: «Где твои участки? Далеко? Нет ли?» «Да тут везде золота много. Хитрость в том, чтобы найти россыпь возле поверхности, под самым дерном, на склонах, на водоразделах, там, где жилы разрушались. Для двоих старателей работа в аккурат по силам. А глубокие шурфы бить наемных работников привлекать придется». «Что же, это ты дело говоришь. Я металлоискатели хорошие привез. Они на хорошей глубине металл обнаружить могут, только как по горам да перевалам такие места нам вычислять? Ведь не геологи мы с тобой. Сами россыпи-то, поди, невелики?» Смеется Константин и говорит: «Помнишь ли ты наш с тобой спор последний?» Олег только с досады рукой махнул: «Вспоминать стыдно. Из-за ерунды такое выгодное дело порушили». «Так и я думаю. Зря мы спорим. Нам договор составить деловой надобно, чтобы, как спор возникает, в самом начале его гасить, а то ни одного дела до конца довести не сможем». «Точно. Давай составим». «Только прежде я тебе свой фокус покажу с дрессированными пчелами, а ты молчи и помогай».
Вытащил из чулана Константин бидончик с медом, достал из кармана флакончик какой-то. Влил в мед и размешал, с вечера, когда все пчелы в улей собрались, крышку снял и в специальные поилки раствор залил, затем приладил над летком склянку с капельницей и запустил в нее жидкость из другой бутылки. Утром чуть свет повернул Костя кран на капельнице – и каждая рабочая пчела, которая за взятком на улицу улетает, обязательно испачкается пахучей жидкостью. Олег смотрит молча, ничего не понимает, но и в разговор не вступает. Через несколько часов Константин наряжается в тайгу. Шарика отвязывает и говорит Олегу: «Бери металлоискатель, лоток да лопату. Пойдем россыпи поверхностные искать, которые здешний народ «поддерниками» называет».
Ходят они час, два. Погода хорошая, только комары да слепни наседают. Шарик то под ногами вертится, то убежит куда-то. Олег с непривычки взопрел от быстрой ходьбы, озлился на приятеля, но терпит, молчит, понимает, что отсюда сам дороги не найдет, если с товарищем поссорится. Ходят они, ходят. Вдруг слышат, в отдалении Шарик лает, заливается. «Вот, – говорит Костя, – нашли россыпь. Пойдем брать». Олег плечами пожал: «Пошли», – говорит. Пришли на собачий лай к горе невеликой.
Косогор, весь сочной травой поросший, в цветах благоухает. По нему Шарик на спине катается, как угорелый. Подошли поближе. Собачка их заметила, подбежала, хвостом виляет – подачки просит. Подкормил сухариком собаку Костя и говорит: «Доставай свой металлоискатель и смотри. Здесь на косогоре где-то россыпь неглубоко лежит». Сердит Олег. Думает про себя: «Не может собака золото чуять, хоть что мне говори. Тут фокус какой-то». Стал металлоискателем из стороны в сторону водить, словно сено косить. Вдруг слышит, в наушниках сигнал появился. Ощущение такое, что цельный лист цветного металла в землю закопан. Сковырнул лопатой дерн, дерн сигналов не дает. Капнул глубже гравешок с глинкой, отнес в сторону, бросил на землю. Есть слабый сигнал. Сделал тогда закопушку в полметра глубиной. Набрал в брезентовый мешок песков да обломков кварца, лоток взял и потащил мешок к ручейку, что под косогором бежит. Костя с Шариком рядом идет. Стал Олег пробу аккуратно от глины отмывать да буторить. Крупные камни ополаскивает над лотком да на берег выбрасывает. Ухватил очередной камень: «Эге! Да он тяжелый». Отмыл камень в воде от глины, травой обтер, а из ноздреватого кварца, словно золотой жук торчит, выпирает, на солнце желтым огнем горит.
Заблестели тогда у золотоискателей глаза. Стали вместе работать. Один копает, другой камни к металлоискателю подносит. За несколько часов десяток самородков нашли. А как в лотке до шлиха породу промыли, на дне лотка куча золотин крупных обнаружилась. Уселись друзья на берег ручья передохнуть. Олег и говорит: «Неужто ты Шарика выучил золото искать? Или все-таки фокус какой есть?» Смеется Костя: «Шарик не золото нашел, а пчел. Они золото отыскали. Дело было так. Долго я думал, кого мне на золото отправить. Ничего умного в голову не приходило. Да вот как-то прочел в книжке, что растения некоторые золото накапливают в коре, в листьях. Разные растения – в разных органах своих. Начал дальше по книгам искать. Сам стал ездить по приискам собирать разные травы, искал, растения, которые больше всего микрозолотин в себя вбирает. На пчел-то я сразу нацелился, ведь их можно на любой вид растений натравить. Подкормку дай с экстрактом цветов, они и будут взяток свой брать только с этих трав. Извел я, правда, деньги все на химические анализы, но определить такую местную травку, любящую золото больше всех трав, все-таки сумел. Но это полдела. Растения в основном мелкое золото в себя вбирают. Пришлось мне в геологические справочники лезть да с практиками-поисковиками много разговаривать, пока сюда меня не отправили. Тут, говорят, климат жаркий. Золото в россыпях особое, за счет подземных растворов, что в почве циркулируют, всегда часть золота в химическом виде присутствует. Пришлось прогуляться на соседние прииски свою траву пособирать там, где она среди богатых россыпей росла. Авось, думаю, пчела различит запах «золотой» травы от такой же, на пустом месте вырастающей. Сделал эссенцию из собранных растений, добавил в подкормку. Ну, вот и получилось, как видишь». «Здорово, – говорит Олег. – Ну а Шарик при чем?» «Шарик при том, что улетают далеко пчелы. Поди, уследи, куда они летят. Тут я и придумал пчел сильно пахнущей жидкостью метить. Их-то Шарик и нашел. Смотри, сколько на маленьком участке косогора пчел моих».
На том и затеяли друзья новое предприятие. Только прежде договор подписали, в котором впредь спорить зарекались. Так и не спорили больше, но, правда, и ничего нового уже не выдумали.

<>Да, наворотил в этом рассказе Терентий Осипович «научных открытий»! Что ни страница, то изобретение! «С таким талантом – и на свободе!» – как сказал Великий Комбинатор. Про собак и свиней шутка старая, но чтобы пчел на золото натравить, это от души! Наука геоботаника подтверждает тот факт, что некоторые виды растений накапливают в себе определимое количество золота, и пчел можно направить на сбор определенного вида взятка, но сочетать две эти методики может только фантазер, сочиняющий сказки!
Рассказ -Спорщики
Жили-были два приятеля Олег и Константин. Еще в школе, бывало, сидят за одной партой – друзья не разлей вода, а вдруг заспорят по пустяку, до того дело порою доходило, что на переменке в туалете мутузят друг друга, на кулаках – всяк свою сторону отстаивает. После стычки разойдутся по разным углам, и каждый ни о чем другом думать не может, кроме того, как свою правоту доказать. На почве споров своих и мирились быстро, иначе как дискуссию продолжишь? Но эти споры у друзей были особого сорта. Если один другому свою правоту делом доказывает, второй соглашается и со всем азартом начинает помогать своему приятелю в том самом деле, против которого недавно на кулаках бился. Таких спорщиков редко повстречаешь. Перечислять все их детские споры ни времени, ни бумаги не хватит, но выросли ребята, привычки свои прежние оставив, вот когда интересные дела пошли.
Стали Олег с Константином почти взрослыми, все, как положено: на вечеринки вместе ходили, за девчонками ухлестывали. Только каждый на чеку был, в любую минуту заспорить готов. Вот как-то раз зашел у них как-то меж собой разговор о кладоискательстве. Олег горячился и шумел: «Вот, мол, дело прибыльное. Сколько в нашей стране всего позарыто. Нигде больше такого не найти, столько революций да перестроек всяких, как у нас совершалось!» Константин тоже вскипать начинает: «Что ты ерунду тут городишь? Какие сокровища у нищего народа? Посмотри, что у крестьян было? Золото? Нет. Одни пятаки медные. Этим делом не прокормишься. Ты это запомни». Может быть, и подрались бы в тот вечер друзья в очередной раз – дело уж к тому шло – только их разняли.
Получилось, что Косте в армию повестку вручили, и пошел он служить на границу китайскую. Олег же поступил в институт, да учился он не то чтобы прилежно, а как придется, времени много тратил на поиски всяких редкостей. Кто разумеет суть поискового дела, тот поймет, что удачливость и упорство всегда прокормят. Иногда и Олегу везло, упорства у него с детства не занимать было. Случилось так, что забросил он учебу и остановил свой выбор на кладоискательстве. За те два года, что Костя собак дрессировал на границе, Олег настоящим профессионалом стал. Не то чтобы разбогател, но на жизнь ему с лихвой хватало.
Срок службы у Константина вышел, вернулся на гражданку, друга своего первым делом проведать пришел, как тот живет, узнать. Поговорили о житье-бытье. Костя и заявляет: «Убедил ты меня, корешок. Дело у тебя, хоть и не очень выгодное, но все же прибыльное, интересное, а я тем временем на границе выучился зверей дрессировать. Цирк свой звериный хочу устроить». «Да где же ты тигров и львов достанешь? А дрессировкой собак не прокормишься. Этим делом многие занимаются. Разве что свиней начнешь учить». Горячиться стал Костя: «Да я любого зверя обучу, чего хочешь, делать». «Ну что, например?» «А хоть твои клады искать научу». «Ха-ха, – смеется Олег. – Да разве животных можно научить монеты искать? Наркотики находить – понятно, собаку сперва наркоманом сделают, вот она и старается, ищет. А как ты ее нумизматом сделаешь? Это ты уж через край махнул. Вот слышал я как-то байку, что свинья однажды кубышку рылом выкопала, так ведь это случайно». «Вот увидишь, собаки мои будут искать, а свиньи будут копать. Я же в сторонке буду сидеть и ими командовать. Посмотришь». Спор дальше продолжался, снова, как в былые времена, дело к драке шло, но видно повзрослели ребята, поумнели, дружбу больше ценить стали. Разошлись миром. Вот как-то при случайной встрече Олег и спрашивает у своего товарища: «Ну, что твои звери? Выдрессировал? Готов их мне в помощники рекомендовать?» «Погоди маленько. Скоро я тебе их в аренду сдам». Смеется Олег: «Долго мне ждать помощников. Ну, да ладно, потерплю ».
Вот однажды звонит Костя Олегу по телефону и говорит: «Готово, артисты для представления созрели. Хочу работу их тебе показать». «Ладно, пускай на огороде фокусы твои звери покажут». «Нет уж. Представление должно быть по всем правилам. Ты мне место хорошее подбери, где клады можно поискать». «Да я ведь никогда наверняка не знаю мест таких. Предположить могу – только и всего. А что если там, где представление устраивать будешь, ничего на самом деле нет?» «Не получится в одном месте, будем в другом проверять. Хорошая дрессура наружу завсегда вылезет. Вот увидишь. Только ты лопату не бери, будешь за мной мешок сухарей таскать, а за землекопов мои питомцы поработают».
Вот выбрали время, встретились на заброшенном хуторе. Олег как увидел питомцев Костиных, так и присвистнул. Одна лохматая собачонка и две хрюшки. Стал смеяться. Костя внимания не обращает, готовит своих зверей к работе. Перед собачонкой разложил предметы медные и бронзовые, да кусочек серебряной проволоки почерневшей положил. Свинок привязал к дереву, собачку на поводок взял, и начал кругами вокруг хутора ходить. Пес землю нюхает, поводок тянет. Время от времени садится, морду вверх поднимет, воздух понюхает и опять под корнями травы да опавшими листьями носом елозит. Минут двадцать всюду Костю на поводке таскал. Но вот песик нашел место какое-то. Сел, хвостом завилял и давай лаять заливисто. Костя его с поводка спустил. Пес сразу когтями землю царапать начал с лаем и визгом, будто крысу в норе учуял. Кричит Костя приятелю: «Отвязывай хрюшек!» Отвязал Олег свиней, те галопом к собаке бегут. Отогнали лохматого от места, помеченного когтями, и начали рылами своими, как ковшами, землю разгребать. Пес вокруг бегает, тявкает. Зрелище уморительное. Олег хохочет, по земле катается. Костя стоит серьезно, поводком по сапогу похлопывает – следит за работой. Так минут пятнадцать-двадцать свиньи копали. Потом как по команде из ямы вылезли и к Косте подбегают. А собачка в яму прыгнула, только хвост торчит, лает в яме. Смеется Олег: «Накопал твой Шарик крысу, не иначе». А Костя ему в ответ: «Тащи сюда сухари. Будем награды работникам раздавать». Поднес Олег сухари к яме, глядит на Шарика, который хвостом в яме пыль подымает, а возле передних лап собаки, канделябр медный, весь зеленью покрытый. «Вот это да! – говорит Олег. – Глазам не верю».
Через некоторое время они опять по прежней системе на охоту отправились. Костя рассказывает: «Эта бригада целый день работать может. Знай, сухарики после удачи выдавай». И в самом деле, до вечера звериная бригада десяток ям вырыла. Самый крупный улов – жестянка со старинными монетами. По дороге домой Олег уже с восторгом слушал рассказ Кости о его пути достижения успеха. «Самым трудным было найти собаку подходящую и наладить дрессуру. Я уже начал думать, что не чуют собаки запахов разных металлов из-под земли. Решил переключиться на хрюшек. Ведь байки-то ходят, сам знаешь. Покупать свиней не хотел. Одно предприятие мне их на откорм выдало. Вот тут и Шарик появился. Иду заниматься со свиньями в огород, а Шарик, пес хозяйский, под ногами вертится. Я свиней как натаскивать собирался? Желуди вместе с монетами закапывал. Свиньи желуди выкапывают хорошо, а вот на одни монеты их «настроить» никак не удается. Пес во время занятий все время рядом. И, видно, понял смысл игры. Стал наперегонки со свиньями желуди с монетами разыскивать. Да так ловко у него получается – в десять раз быстрее, чем у свиней. Тут я решил попробовать усложнить Шарику задачу. а свинок пока не привлекать к поисковым работам. пускай они в «копателях» походят. Теперь давай попробуем, Олег, вместе зарабатывать. Мне таких хрюшек на убой, сам понимаешь, отдавать жалко, Шарика хочу выкупить. а хозяин цену заламывает».
Стали на пару приятели работать. Дело скоро пошло. Заметили их работу другие люди, которые поисками занимаются. Заказы на дрессированных животных поступать начали. Организовали товарищи что-то вроде звериной школы. Конечно, Костя числился главным дрессировщиком, он построил дело так, что зверье само друг у друга манеры поисковые перенимало. Стал дрессировщик использовать другие виды зверей. Прошла пора споров – работы хоть отбавляй – всяк своим делом занимается. Костя в своих экспериментах брался обучать лишь тех животных, которые специальные тесты, им же придуманные, проходили. Секретами своими не очень-то делился, поэтому конкурировать с ним никто не мог, хоть на их ферме любознательного народа всегда много было. Костя говорил зевакам так: «Поймете сами технологию мою – пожалуйста, а говорить ничего не буду». Если бы очередного спора не вышло, глядишь, и вовсе забогатели бы друзья.
Но опять случилась между ними размолвка. Как-то раз Олег возьми и брякни: «Жаль, золото в земле не пахнет. Оно, конечно, попадается в кубышках, где другие металлы окислами себя проявляют. А так, чтобы самородное золото твои четвероногие искали, такого, видно, никогда не устроить». Задумался Костя и говорит: «Если хорошенько поразмыслить, и эту задачу решить можно. В животных способностей нераскрытых еще много». «Брось, – говорит Олег. – Благородные металлы не дадут запаха твоим искателям и голову морочить нечего». «Да нет, придумать что-нибудь можно», – настаивает Костя. И пошло-поехало по старой схеме. Два дня спорили, три дня не разговаривали.
Дела их фирмы пошатнулись, распродали приятели тогда своих дрессированных тварей, только Шарика Костя себе оставил. Деньги поделили и разошлись, как в море корабли. Олег опять клады копает, а Костя куда-то на восток подался. Три года от него ни слуху, ни духу не было. Олег уже жалеть стал, что такой серьезный разговор с другом получился. Да, видно, делать нечего – разошлись их дороги.
Вот однажды по весне получает Олег письмо из далекого сибирского поселка от своего старого друга. В письме сказано: так, мол, и так. Приезжай, дружище, помогай. Стал я, мол, старателем. Золотишко мою, дело идет потихоньку. Помощник нужен – один уже не управляюсь. Обрадовался Олег, что старая дружба продолжается. Собрал свой промысловый инструмент и отправился по указанному в письме адресу. Долго добирался до места. Добрался, наконец. Последние пятнадцать верст пешком пришлось идти.
Встретились друзья, обнялись, о житье говорить стали. Олег спрашивает: «Где твои участки? Далеко? Нет ли?» «Да тут везде золота много. Хитрость в том, чтобы найти россыпь возле поверхности, под самым дерном, на склонах, на водоразделах, там, где жилы разрушались. Для двоих старателей работа в аккурат по силам. А глубокие шурфы бить наемных работников привлекать придется». «Что же, это ты дело говоришь. Я металлоискатели хорошие привез. Они на хорошей глубине металл обнаружить могут, только как по горам да перевалам такие места нам вычислять? Ведь не геологи мы с тобой. Сами россыпи-то, поди, невелики?» Смеется Константин и говорит: «Помнишь ли ты наш с тобой спор последний?» Олег только с досады рукой махнул: «Вспоминать стыдно. Из-за ерунды такое выгодное дело порушили». «Так и я думаю. Зря мы спорим. Нам договор составить деловой надобно, чтобы, как спор возникает, в самом начале его гасить, а то ни одного дела до конца довести не сможем». «Точно. Давай составим». «Только прежде я тебе свой фокус покажу с дрессированными пчелами, а ты молчи и помогай».
Вытащил из чулана Константин бидончик с медом, достал из кармана флакончик какой-то. Влил в мед и размешал, с вечера, когда все пчелы в улей собрались, крышку снял и в специальные поилки раствор залил, затем приладил над летком склянку с капельницей и запустил в нее жидкость из другой бутылки. Утром чуть свет повернул Костя кран на капельнице – и каждая рабочая пчела, которая за взятком на улицу улетает, обязательно испачкается пахучей жидкостью. Олег смотрит молча, ничего не понимает, но и в разговор не вступает. Через несколько часов Константин наряжается в тайгу. Шарика отвязывает и говорит Олегу: «Бери металлоискатель, лоток да лопату. Пойдем россыпи поверхностные искать, которые здешний народ «поддерниками» называет».
Ходят они час, два. Погода хорошая, только комары да слепни наседают. Шарик то под ногами вертится, то убежит куда-то. Олег с непривычки взопрел от быстрой ходьбы, озлился на приятеля, но терпит, молчит, понимает, что отсюда сам дороги не найдет, если с товарищем поссорится. Ходят они, ходят. Вдруг слышат, в отдалении Шарик лает, заливается. «Вот, – говорит Костя, – нашли россыпь. Пойдем брать». Олег плечами пожал: «Пошли», – говорит. Пришли на собачий лай к горе невеликой.
Косогор, весь сочной травой поросший, в цветах благоухает. По нему Шарик на спине катается, как угорелый. Подошли поближе. Собачка их заметила, подбежала, хвостом виляет – подачки просит. Подкормил сухариком собаку Костя и говорит: «Доставай свой металлоискатель и смотри. Здесь на косогоре где-то россыпь неглубоко лежит». Сердит Олег. Думает про себя: «Не может собака золото чуять, хоть что мне говори. Тут фокус какой-то». Стал металлоискателем из стороны в сторону водить, словно сено косить. Вдруг слышит, в наушниках сигнал появился. Ощущение такое, что цельный лист цветного металла в землю закопан. Сковырнул лопатой дерн, дерн сигналов не дает. Капнул глубже гравешок с глинкой, отнес в сторону, бросил на землю. Есть слабый сигнал. Сделал тогда закопушку в полметра глубиной. Набрал в брезентовый мешок песков да обломков кварца, лоток взял и потащил мешок к ручейку, что под косогором бежит. Костя с Шариком рядом идет. Стал Олег пробу аккуратно от глины отмывать да буторить. Крупные камни ополаскивает над лотком да на берег выбрасывает. Ухватил очередной камень: «Эге! Да он тяжелый». Отмыл камень в воде от глины, травой обтер, а из ноздреватого кварца, словно золотой жук торчит, выпирает, на солнце желтым огнем горит.
Заблестели тогда у золотоискателей глаза. Стали вместе работать. Один копает, другой камни к металлоискателю подносит. За несколько часов десяток самородков нашли. А как в лотке до шлиха породу промыли, на дне лотка куча золотин крупных обнаружилась. Уселись друзья на берег ручья передохнуть. Олег и говорит: «Неужто ты Шарика выучил золото искать? Или все-таки фокус какой есть?» Смеется Костя: «Шарик не золото нашел, а пчел. Они золото отыскали. Дело было так. Долго я думал, кого мне на золото отправить. Ничего умного в голову не приходило. Да вот как-то прочел в книжке, что растения некоторые золото накапливают в коре, в листьях. Разные растения – в разных органах своих. Начал дальше по книгам искать. Сам стал ездить по приискам собирать разные травы, искал, растения, которые больше всего микрозолотин в себя вбирает. На пчел-то я сразу нацелился, ведь их можно на любой вид растений натравить. Подкормку дай с экстрактом цветов, они и будут взяток свой брать только с этих трав. Извел я, правда, деньги все на химические анализы, но определить такую местную травку, любящую золото больше всех трав, все-таки сумел. Но это полдела. Растения в основном мелкое золото в себя вбирают. Пришлось мне в геологические справочники лезть да с практиками-поисковиками много разговаривать, пока сюда меня не отправили. Тут, говорят, климат жаркий. Золото в россыпях особое, за счет подземных растворов, что в почве циркулируют, всегда часть золота в химическом виде присутствует. Пришлось прогуляться на соседние прииски свою траву пособирать там, где она среди богатых россыпей росла. Авось, думаю, пчела различит запах «золотой» травы от такой же, на пустом месте вырастающей. Сделал эссенцию из собранных растений, добавил в подкормку. Ну, вот и получилось, как видишь». «Здорово, – говорит Олег. – Ну а Шарик при чем?» «Шарик при том, что улетают далеко пчелы. Поди, уследи, куда они летят. Тут я и придумал пчел сильно пахнущей жидкостью метить. Их-то Шарик и нашел. Смотри, сколько на маленьком участке косогора пчел моих».
На том и затеяли друзья новое предприятие. Только прежде договор подписали, в котором впредь спорить зарекались. Так и не спорили больше, но, правда, и ничего нового уже не выдумали.
<>Да, наворотил в этом рассказе Терентий Осипович «научных открытий»! Что ни страница, то изобретение! «С таким талантом – и на свободе!» – как сказал Великий Комбинатор. Про собак и свиней шутка старая, но чтобы пчел на золото натравить, это от души! Наука геоботаника подтверждает тот факт, что некоторые виды растений накапливают в себе определимое количество золота, и пчел можно направить на сбор определенного вида взятка, но сочетать две эти методики может только фантазер, сочиняющий сказки!
-
pioneer

- Старожил

- Сообщений: 777
- Стаж: 6 лет 6 месяцев
- Имя: Лёха
- Местонахождение: Свияжское воеводство
- Благодарил (а): 291 раз
- Поблагодарили: 1118 раз
Автор - И. О. Отступник
Рассказ - Церковный археолог
Мудреная у меня получилась сказка. Вплелись среди выдумок судьбы трех людей, вполне конкретных. Помните, как индеец Ситка Чарли в рассказе Джека Лондона не мог понять смысла картинки на стенке юконского зимовья: один человек стреляет, другой падает. Кто? За что? Не ясно. Зачем такая картинка на стенке висит? Тоже непонятно. Вот и я в сказку с фантазийной концовкой вплел обрывки судеб случайных знакомых. Где они теперь? Живы ли? Ничего не знаю. Запечатлелись эти персонажи в моей памяти непонятными яркими картинками.
Итак, жил да был в одном большом городе парнишка по имени Вовка, было ему всего 15 годков. Жил он в семье работящей, и учеба ладилась, и нареканий от старших не имел. Да случилось, что Вовка с ворами связался. Дело житейское – не углядели родители, кто перед глазами юноши вертелся. С того все и началось. Выбрал он себе в авторитеты ловкого вора, теперь и родители не указ стали. Сам-то Вовка размечтался, что заживет теперь веселой жизнью с верными друзьями и будет таким же ловким да удачливым, как его блатной кумир. Начал пробовать деньги у честных граждан отбирать. Да не получилось стать фартовым налетчиком, попался со второго или третьего раза. По малолетству отпустили, было, но Вовка новую специальность осваивать стал – по карманам лазать. Здесь уж ему старое припомнили и упекли в колонию для несовершеннолетних преступников. Увидел паренек изнанку воровской романтики. Насмотрелся. Да такая наука даром не дается.
Вышел на свободу другим человеком, к трудовой жизни, так сказать, не приспособленным. Правда, следует заметить, что одно достоинство у него сохранилось. Принцип: впрок никогда не крал. Когда деньги были, ни за какие коврижки в чужую квартиру или на разбой не затащишь. Поэтому-то дольше других своих приятелей на свободе и оставался. О будущем не тужил. Коли поймают, так поймают. А пока чего думать? Научился Вовка никого не бояться, ни во что не верить.
Бывало, старая бабка, родня последняя, корила его да приговаривала: «Покарает тебя Господь за лихоимство-то. Ой, покарает». А Вовка все смеется: «Да что ты, баб, он только своих карает, крещенных. А меня-то не имеет права. Не его полку-части, нехристь я. Родители-то вон коммунистами были». Отвечает бабка: «Пусть они были коммунистами, пусть. А ты крещен в младенчестве, так и знай. Будет тебе знак, не маши руками. Я сон про тебя видела. Все как есть. Точно говорю, будет знак». Посмеялся Вовка на старухины слова и думать про разговор забыл.
Только вот случай один вышел. Прослышал в компании Вовка, что за иконы старинные барыги большие деньги дают. И удумал он в сельской церквушке покражу устроить. Выискал одну такую в заброшенном районе. Приехал в село. Подрядился в бригаду строительную подсобным рабочим. Заглянул как-то ненароком в местный храм, отыскал в углу самую древнюю икону, как ему кореша описывали. И стал думать, как эту священную доску украсть. А украсть ее проще простого было. Священник старенький да сторож глухой – вот и весь штат церковный.
Дождался как-то Вовка ночью, пока сторож спать улегся, пробрался в храм к нужной иконе. А возле нее лампадка горит. Огонек маленький потрескивает. Вовка стал икону из иконостаса выковыривать. Все бы удалось ему легко и просто, да глянул вскользь в глаза святого, и вдруг, словно паралич малый с ним приключился. Обе руки судорогой стало сводить. Пальцы вовнутрь выворачивает, а кисти наружу крутит. Так корежило, что еле из церкви выбрался.
Пришел ночью в общагу строительскую. Водки раздобыл, выпил. Вроде отпустило. Наутро ничто не напоминало о давешнем припадке. Специально в церковь зашел себя проверить – нет судорог. Вышел из церкви обрадованный и пошагал прочь бодрым шагом. Метров на пятьдесят отошел. Только внезапно почувствовал, будто руку ему кто на затылок положил и удерживает. Встал Вовка и сказал себе: «Это мне бабка судорогу накликала! Не дает красть из церкви».
Мало того, другие покражи Вовке тоже недоступны стали, если они по трезвому делу замышлялись. Соберется в чужую квартиру лезть, снова руки крючит. Стал выпивать чаще, словно сам себе доказать пытается, что с ним никаких таких шуток пройти не может. Арестовали Вовку за очередную кражу и осудили на большой срок. Хлебнул он лагерного лиха. Да повезло – по амнистии на свободу вышел.
Родственников к тому времени у него уже никого не осталось. Загрустил, задумался: «Что же дальше делать? Опять воровать? Так пьяному снова скорая дорога в казенный дом. А к другим работам неприучен». Думал, думал да надумал вернуться в то село, где с ним явление необычное впервые случилось. Авось на месте до чего еще додумается.
Поехал в село, зашел в церковь. Все там по-прежнему. Тот же старый сторож, тот же седенький священник. Только вместо иконы, им когда-то присмотренной, на иконостасе светлый прямоугольник незакопченный. Что такое? Куда девалась? Пошел священника спрашивать. Так, мол, и так. «Работал я здесь несколько лет назад, заприметил тут икону чудотворную. А теперь ее нет. Как же мне без нее хвори свои лечить?» Отвечает ему священник: «Верно говоришь. Стояла тут икона чудотворная. Да вот зашел как-то недобрый человек, да и украл образ». «А что вора не поймали?» – спросил Вовка. «В наших краях чужаков немного, через день на другой покраже того вора словили. Только он икону где-то спрятал. Сам-то, слышишь, божился, что пьян был, не помнил, как и воровал, как и прятал. Что ночью, мол, дело было – где куролесил, не помнит. Что-то вроде бы на берегу реки шатался, куда еще носило – не знает. Водили тут его со следственными экспериментами. Ничего припомнить не смог».
Ушел Вовка тогда на берег реки. Уселся на траву и думает: «А может, бабка и права. Может быть, и будет знак какой Господний». До самого утра сидел, речными красотами любовался. Да размышлял о жизни своей непутевой. Захотелось Вовке найти ту икону и в церковь вернуть. «Как ее сыщешь? – подумал он. – Тут ведь прибор нужен. Икона-то в окладе серебряном. Вот бы миноискатель армейский достать. Да где взять его? Денег нет. А просить – кто поверит незнакомцу?»
Вернулся он посоветоваться с батюшкой, зашел в церковь. А там служба идет. Десяток стариков и старушек поклоны бьют. Отстоял всю службу, дождался, пока священник освободится, да и рассказал ему о своей задумке. Выслушал старый человек парня внимательно. И говорит: «Чувствую сердцем, сын мой, что ты не просто так найти этот образ хочешь. Что-то важное с тобой приключается. Мы всем селом искали, не нашли. А вот технику применить не додумались. Поезжай-ка ты в район. Там у меня зятек в воинской части служит. Я ему письмо напишу. Он тебе посодействует миноискатель добыть».
Поехал Вовка в воинскую часть. Отыскал нужного офицера. Тот прочитал письмо два раза, покачал головой и говорит: «Ну, батюшка, задачку ты мне задал». Сел за телефон, стал кому-то названивать. Долго объяснял, ругался, упрашивал. Да, видно, уговорил кого-то. Велел Вовке ждать в коридоре. Часа три парень на жестком табурете просидел. Ни о чем ему не думалось. Ничто не хотелось. Решил судьбу испытывать, не на кого пенять. Тут солдат в кабинет сапожищами топает, какую-то сумку зеленую через плечо тащит. Зовет офицер Вовку в свой кабинет и говорит: «Ну, что ж, товарищ дорогой, прими под расписку прибор да, смотри, инструкцию хорошенько читай. И вот что – смазывать, смазывать не забывай!».
Вернулся Вовка с миноискателем в село. Начал свои поиски в указанном районе проводить. Поначалу у него в доброхотах с десяток народу ходило. Но, как он выковырял кучу всякой ржавой дряни из земли, доброхоты с усмешками и разбежались. А сам Вовка удивляется: «Никогда не думал, что в земле так много всякого железа водится». Но неудачи как-то завели парня. Азарт появился. Как сигнал в наушниках звенит, ощущение, словно по водосточной трубе в чужую квартиру лезешь. Вся душа встрепенется, а руки не сводит!
Как-то присел в полдень передохнуть под березку, да и уснул. Снится ему странный сон, будто роет он яму глубокую, а сверху его человек окликает. Посмотрел наверх, а лицо у человека вроде знакомым показалось, будто бы он видел его. Борода приметная, глаза проницательные. Говорит ему старик: «Чего ищешь, молодец, здесь?» Всело Вовке во сне сделалось, зубоскалить охота. «А я, – говорит, – батяня, как всякий русский, ищу то, что сам не терял, да не там, где потеряно, а там, где фонарь горит». Улыбнулся бородатый и отвечает: «Ну, так и быть по сему. Будешь находить, что не терял. А где фонарь засветится, там найдешь славу и прощение». Сказал это бородатый и добавляет: «Ну, полно тебе яму копать. Нет тут ничего. Давай руку. Из сырости вылезать пора». Протягивает Вовка во сне руку старику и на том просыпается. Голова ясная, как и не спал вовсе. А на ладони такое ощущение, будто тепло чужих пальцев осталось. Встал в полный рост, отряхнул листья прилипшие, а про себя и думает: «Ну, дед, буду искать фонарь твой обещанный».
Стал дальше поиски вести. В тот же вечер ему повезло. Нашел чугунок с монетами: серебра немного, в основном, медяки. Правда, и золотинка одна попалась. Лежит себе, поблескивает. Обрадовался Вовка несказанно, но и о деле своем не забыл. Клад в сумку дорожную переложил, дальше поиски ведет. Работает с рассвета до заката. И вот как-то днем оставил свой металлоискатель в церкви, а сам без прибора и лопаты с блокнотиком и карандашом стал по окрестностям ходить. Холмы, овраги да поляны рассматривать и на бумагу зарисовывать. Выбирает удобные для схрона места да на плане помечает. На другой день уже по своим приметам в полном вооружении отправился. В третьей же яме вскрыл тайничок: три иконы в серебряных окладах вынул. Их, видно, в тридцатые годы кто-то упрятал. Отнес свою находку священнику. А сам дальше по своим меткам работать пошел. Вот тут чудо-фонарь и засветился.
Дело уже к вечеру было. Хотел Вовка еще один участок успеть проверить. Низкое солнце затылок печет. Подумалось тогда: «Точь-в-точь, как в тот раз, когда еще до срока от церкви отходил, тепло такое же, будто рука теплая на затылке лежит». Тут ему в глаза из густой липовой кроны сноп света и ударил. Остановился Вовка как вкопанный. Светит с верхушки дерева прожектор солнечным снопом прямо в глаза. Вот те на! Бросил весь инструмент, побежал к старой липе, полез по сучкам вверх. Видит: стоит искомая им икона у развилки ствола, в небольшом дуплеце. Только в определенный момент стекло покровное и могло солнечный свет отразить. В образ вгляделся и чуть с дерева не свалился. Смотрит на него с потемневшей доски тот самый бородач, что давеча во сне привиделся и руку подал, чтобы из ямы вытянуть. Как в себя пришел, как и на землю спустился, не помнит. Понес находку свою священнику. Да все ему про себя рассказал. Долго молчал батюшка. Затем говорит: «Задал ты мне, раб Божий, задачку. Сколько времени Богу служу, но мне ни разу угодники не являлись. Ты послушай меня не как священника, а как старого человека. Слаб ты, Владимир, на новом пути. Погоди в мир, губивший тебя, возвращаться. Приобщись сначала к вере Христовой. Будь на всех службах некоторое время. А как душа окрепнет, сам решишь, чем жить станешь».
Так Вовка и сделал. Пробыл в том селе до поздней осени. Все службы отстаивал. А в прочее время ходил с металлоискателем по окрестностям. Забрался даже к разрушенному во время войны монастырю, что поблизости стоял, много что там ценного для церкви нашел. Попадались и монеты. Церковную утварь он всю священнику отдавал, а монеты себе в сумку дорожную клал.
Как-то батюшка ездил в епархию. Приехал оттуда с сановным человеком, духовного рангу высокого, который долго Вовку расспрашивал обо всем, а потом и предложил стать православным археологом. Смутился Вовка, говорит: «Какой из меня археолог? Я восьмилетку-то в колонии заканчивал». Сановник отвечает ему: «Это ничего. Главное, что у тебя явлен дар Божий. Летом работай, а зимой учись на здоровье. Мы тебе учителей подыщем».
Так и случилось. Вовка всю зиму посвятил изучению храмов российских. На деньги, вырученные от реализации найденных монет, приобрел себе поисковую технику и снаряжение. А церковь ему двоих послушников выделила. Как снег растаял, первый церковный археолог и отправился по намеченным ранее маршрутам. Так вот и собирал всю оставшуюся жизнь то, что сам никогда не терял.
Считаю, что высказанная автором идея создания поисково-исторической службы при церквях традиционных концессий заслуживает самого серьезного рассмотрения служителями культа. В различных тайниках сейчас находится огромное количество исторических и духовных реликвий, по праву принадлежащих различным церквам. При желании заинтересованных официальных лиц можно было бы привлечь опытных поисковиков к проблеме отыскания тайников на договорной основе.К сожалению, пока такое сотрудничество встречается только в «сказках».
Рассказ - Церковный археолог
Мудреная у меня получилась сказка. Вплелись среди выдумок судьбы трех людей, вполне конкретных. Помните, как индеец Ситка Чарли в рассказе Джека Лондона не мог понять смысла картинки на стенке юконского зимовья: один человек стреляет, другой падает. Кто? За что? Не ясно. Зачем такая картинка на стенке висит? Тоже непонятно. Вот и я в сказку с фантазийной концовкой вплел обрывки судеб случайных знакомых. Где они теперь? Живы ли? Ничего не знаю. Запечатлелись эти персонажи в моей памяти непонятными яркими картинками.
Итак, жил да был в одном большом городе парнишка по имени Вовка, было ему всего 15 годков. Жил он в семье работящей, и учеба ладилась, и нареканий от старших не имел. Да случилось, что Вовка с ворами связался. Дело житейское – не углядели родители, кто перед глазами юноши вертелся. С того все и началось. Выбрал он себе в авторитеты ловкого вора, теперь и родители не указ стали. Сам-то Вовка размечтался, что заживет теперь веселой жизнью с верными друзьями и будет таким же ловким да удачливым, как его блатной кумир. Начал пробовать деньги у честных граждан отбирать. Да не получилось стать фартовым налетчиком, попался со второго или третьего раза. По малолетству отпустили, было, но Вовка новую специальность осваивать стал – по карманам лазать. Здесь уж ему старое припомнили и упекли в колонию для несовершеннолетних преступников. Увидел паренек изнанку воровской романтики. Насмотрелся. Да такая наука даром не дается.
Вышел на свободу другим человеком, к трудовой жизни, так сказать, не приспособленным. Правда, следует заметить, что одно достоинство у него сохранилось. Принцип: впрок никогда не крал. Когда деньги были, ни за какие коврижки в чужую квартиру или на разбой не затащишь. Поэтому-то дольше других своих приятелей на свободе и оставался. О будущем не тужил. Коли поймают, так поймают. А пока чего думать? Научился Вовка никого не бояться, ни во что не верить.
Бывало, старая бабка, родня последняя, корила его да приговаривала: «Покарает тебя Господь за лихоимство-то. Ой, покарает». А Вовка все смеется: «Да что ты, баб, он только своих карает, крещенных. А меня-то не имеет права. Не его полку-части, нехристь я. Родители-то вон коммунистами были». Отвечает бабка: «Пусть они были коммунистами, пусть. А ты крещен в младенчестве, так и знай. Будет тебе знак, не маши руками. Я сон про тебя видела. Все как есть. Точно говорю, будет знак». Посмеялся Вовка на старухины слова и думать про разговор забыл.
Только вот случай один вышел. Прослышал в компании Вовка, что за иконы старинные барыги большие деньги дают. И удумал он в сельской церквушке покражу устроить. Выискал одну такую в заброшенном районе. Приехал в село. Подрядился в бригаду строительную подсобным рабочим. Заглянул как-то ненароком в местный храм, отыскал в углу самую древнюю икону, как ему кореша описывали. И стал думать, как эту священную доску украсть. А украсть ее проще простого было. Священник старенький да сторож глухой – вот и весь штат церковный.
Дождался как-то Вовка ночью, пока сторож спать улегся, пробрался в храм к нужной иконе. А возле нее лампадка горит. Огонек маленький потрескивает. Вовка стал икону из иконостаса выковыривать. Все бы удалось ему легко и просто, да глянул вскользь в глаза святого, и вдруг, словно паралич малый с ним приключился. Обе руки судорогой стало сводить. Пальцы вовнутрь выворачивает, а кисти наружу крутит. Так корежило, что еле из церкви выбрался.
Пришел ночью в общагу строительскую. Водки раздобыл, выпил. Вроде отпустило. Наутро ничто не напоминало о давешнем припадке. Специально в церковь зашел себя проверить – нет судорог. Вышел из церкви обрадованный и пошагал прочь бодрым шагом. Метров на пятьдесят отошел. Только внезапно почувствовал, будто руку ему кто на затылок положил и удерживает. Встал Вовка и сказал себе: «Это мне бабка судорогу накликала! Не дает красть из церкви».
Мало того, другие покражи Вовке тоже недоступны стали, если они по трезвому делу замышлялись. Соберется в чужую квартиру лезть, снова руки крючит. Стал выпивать чаще, словно сам себе доказать пытается, что с ним никаких таких шуток пройти не может. Арестовали Вовку за очередную кражу и осудили на большой срок. Хлебнул он лагерного лиха. Да повезло – по амнистии на свободу вышел.
Родственников к тому времени у него уже никого не осталось. Загрустил, задумался: «Что же дальше делать? Опять воровать? Так пьяному снова скорая дорога в казенный дом. А к другим работам неприучен». Думал, думал да надумал вернуться в то село, где с ним явление необычное впервые случилось. Авось на месте до чего еще додумается.
Поехал в село, зашел в церковь. Все там по-прежнему. Тот же старый сторож, тот же седенький священник. Только вместо иконы, им когда-то присмотренной, на иконостасе светлый прямоугольник незакопченный. Что такое? Куда девалась? Пошел священника спрашивать. Так, мол, и так. «Работал я здесь несколько лет назад, заприметил тут икону чудотворную. А теперь ее нет. Как же мне без нее хвори свои лечить?» Отвечает ему священник: «Верно говоришь. Стояла тут икона чудотворная. Да вот зашел как-то недобрый человек, да и украл образ». «А что вора не поймали?» – спросил Вовка. «В наших краях чужаков немного, через день на другой покраже того вора словили. Только он икону где-то спрятал. Сам-то, слышишь, божился, что пьян был, не помнил, как и воровал, как и прятал. Что ночью, мол, дело было – где куролесил, не помнит. Что-то вроде бы на берегу реки шатался, куда еще носило – не знает. Водили тут его со следственными экспериментами. Ничего припомнить не смог».
Ушел Вовка тогда на берег реки. Уселся на траву и думает: «А может, бабка и права. Может быть, и будет знак какой Господний». До самого утра сидел, речными красотами любовался. Да размышлял о жизни своей непутевой. Захотелось Вовке найти ту икону и в церковь вернуть. «Как ее сыщешь? – подумал он. – Тут ведь прибор нужен. Икона-то в окладе серебряном. Вот бы миноискатель армейский достать. Да где взять его? Денег нет. А просить – кто поверит незнакомцу?»
Вернулся он посоветоваться с батюшкой, зашел в церковь. А там служба идет. Десяток стариков и старушек поклоны бьют. Отстоял всю службу, дождался, пока священник освободится, да и рассказал ему о своей задумке. Выслушал старый человек парня внимательно. И говорит: «Чувствую сердцем, сын мой, что ты не просто так найти этот образ хочешь. Что-то важное с тобой приключается. Мы всем селом искали, не нашли. А вот технику применить не додумались. Поезжай-ка ты в район. Там у меня зятек в воинской части служит. Я ему письмо напишу. Он тебе посодействует миноискатель добыть».
Поехал Вовка в воинскую часть. Отыскал нужного офицера. Тот прочитал письмо два раза, покачал головой и говорит: «Ну, батюшка, задачку ты мне задал». Сел за телефон, стал кому-то названивать. Долго объяснял, ругался, упрашивал. Да, видно, уговорил кого-то. Велел Вовке ждать в коридоре. Часа три парень на жестком табурете просидел. Ни о чем ему не думалось. Ничто не хотелось. Решил судьбу испытывать, не на кого пенять. Тут солдат в кабинет сапожищами топает, какую-то сумку зеленую через плечо тащит. Зовет офицер Вовку в свой кабинет и говорит: «Ну, что ж, товарищ дорогой, прими под расписку прибор да, смотри, инструкцию хорошенько читай. И вот что – смазывать, смазывать не забывай!».
Вернулся Вовка с миноискателем в село. Начал свои поиски в указанном районе проводить. Поначалу у него в доброхотах с десяток народу ходило. Но, как он выковырял кучу всякой ржавой дряни из земли, доброхоты с усмешками и разбежались. А сам Вовка удивляется: «Никогда не думал, что в земле так много всякого железа водится». Но неудачи как-то завели парня. Азарт появился. Как сигнал в наушниках звенит, ощущение, словно по водосточной трубе в чужую квартиру лезешь. Вся душа встрепенется, а руки не сводит!
Как-то присел в полдень передохнуть под березку, да и уснул. Снится ему странный сон, будто роет он яму глубокую, а сверху его человек окликает. Посмотрел наверх, а лицо у человека вроде знакомым показалось, будто бы он видел его. Борода приметная, глаза проницательные. Говорит ему старик: «Чего ищешь, молодец, здесь?» Всело Вовке во сне сделалось, зубоскалить охота. «А я, – говорит, – батяня, как всякий русский, ищу то, что сам не терял, да не там, где потеряно, а там, где фонарь горит». Улыбнулся бородатый и отвечает: «Ну, так и быть по сему. Будешь находить, что не терял. А где фонарь засветится, там найдешь славу и прощение». Сказал это бородатый и добавляет: «Ну, полно тебе яму копать. Нет тут ничего. Давай руку. Из сырости вылезать пора». Протягивает Вовка во сне руку старику и на том просыпается. Голова ясная, как и не спал вовсе. А на ладони такое ощущение, будто тепло чужих пальцев осталось. Встал в полный рост, отряхнул листья прилипшие, а про себя и думает: «Ну, дед, буду искать фонарь твой обещанный».
Стал дальше поиски вести. В тот же вечер ему повезло. Нашел чугунок с монетами: серебра немного, в основном, медяки. Правда, и золотинка одна попалась. Лежит себе, поблескивает. Обрадовался Вовка несказанно, но и о деле своем не забыл. Клад в сумку дорожную переложил, дальше поиски ведет. Работает с рассвета до заката. И вот как-то днем оставил свой металлоискатель в церкви, а сам без прибора и лопаты с блокнотиком и карандашом стал по окрестностям ходить. Холмы, овраги да поляны рассматривать и на бумагу зарисовывать. Выбирает удобные для схрона места да на плане помечает. На другой день уже по своим приметам в полном вооружении отправился. В третьей же яме вскрыл тайничок: три иконы в серебряных окладах вынул. Их, видно, в тридцатые годы кто-то упрятал. Отнес свою находку священнику. А сам дальше по своим меткам работать пошел. Вот тут чудо-фонарь и засветился.
Дело уже к вечеру было. Хотел Вовка еще один участок успеть проверить. Низкое солнце затылок печет. Подумалось тогда: «Точь-в-точь, как в тот раз, когда еще до срока от церкви отходил, тепло такое же, будто рука теплая на затылке лежит». Тут ему в глаза из густой липовой кроны сноп света и ударил. Остановился Вовка как вкопанный. Светит с верхушки дерева прожектор солнечным снопом прямо в глаза. Вот те на! Бросил весь инструмент, побежал к старой липе, полез по сучкам вверх. Видит: стоит искомая им икона у развилки ствола, в небольшом дуплеце. Только в определенный момент стекло покровное и могло солнечный свет отразить. В образ вгляделся и чуть с дерева не свалился. Смотрит на него с потемневшей доски тот самый бородач, что давеча во сне привиделся и руку подал, чтобы из ямы вытянуть. Как в себя пришел, как и на землю спустился, не помнит. Понес находку свою священнику. Да все ему про себя рассказал. Долго молчал батюшка. Затем говорит: «Задал ты мне, раб Божий, задачку. Сколько времени Богу служу, но мне ни разу угодники не являлись. Ты послушай меня не как священника, а как старого человека. Слаб ты, Владимир, на новом пути. Погоди в мир, губивший тебя, возвращаться. Приобщись сначала к вере Христовой. Будь на всех службах некоторое время. А как душа окрепнет, сам решишь, чем жить станешь».
Так Вовка и сделал. Пробыл в том селе до поздней осени. Все службы отстаивал. А в прочее время ходил с металлоискателем по окрестностям. Забрался даже к разрушенному во время войны монастырю, что поблизости стоял, много что там ценного для церкви нашел. Попадались и монеты. Церковную утварь он всю священнику отдавал, а монеты себе в сумку дорожную клал.
Как-то батюшка ездил в епархию. Приехал оттуда с сановным человеком, духовного рангу высокого, который долго Вовку расспрашивал обо всем, а потом и предложил стать православным археологом. Смутился Вовка, говорит: «Какой из меня археолог? Я восьмилетку-то в колонии заканчивал». Сановник отвечает ему: «Это ничего. Главное, что у тебя явлен дар Божий. Летом работай, а зимой учись на здоровье. Мы тебе учителей подыщем».
Так и случилось. Вовка всю зиму посвятил изучению храмов российских. На деньги, вырученные от реализации найденных монет, приобрел себе поисковую технику и снаряжение. А церковь ему двоих послушников выделила. Как снег растаял, первый церковный археолог и отправился по намеченным ранее маршрутам. Так вот и собирал всю оставшуюся жизнь то, что сам никогда не терял.
Считаю, что высказанная автором идея создания поисково-исторической службы при церквях традиционных концессий заслуживает самого серьезного рассмотрения служителями культа. В различных тайниках сейчас находится огромное количество исторических и духовных реликвий, по праву принадлежащих различным церквам. При желании заинтересованных официальных лиц можно было бы привлечь опытных поисковиков к проблеме отыскания тайников на договорной основе.К сожалению, пока такое сотрудничество встречается только в «сказках».
-
pioneer

- Старожил

- Сообщений: 777
- Стаж: 6 лет 6 месяцев
- Имя: Лёха
- Местонахождение: Свияжское воеводство
- Благодарил (а): 291 раз
- Поблагодарили: 1118 раз
Автор - И. О. Отступник
Рассказ - Сапёр
Придется начинать сказку с избитой-преизбитой фразы «жизнь полна противоречий», потому что тема сказки может оказаться слишком болезненной для многих людей, прошедших через суровые испытания огнем войны. Как-то я прочитал в одной популярной книге рассказ психолога о совершенно непонятном поведении бывшего заключенного «лагеря смерти», который, спустя двадцать лет, очутившись в составе туристической группы, на месте своего лагерного барака совершил якобы необъяснимый поступок. Представьте, как вполне респектабельный турист с солидным брюшком, зарыдав, вдруг воскликнул: «Господи! Только здесь я был по-настоящему счастлив!» Видевшие эту сцену люди посчитали, что человек просто-напросто сошел с ума. Только психолог все объяснил: «Здесь прошли молодые годы узника. Здесь он переживал всю остроту борьбы со смертью».
Жил да был один парень. Звали его Геннадием. Когда-то давно по идейным соображениям он пошел на войну. Геннадию везло: воевал, как и положено романтическому герою, только с вооруженными врагами, «вражьих голосов» не слушал и свято верил, что защищает дальние подступы к рубежам своей родины. Статистика утверждает, что жертвами современных войн становится более семидесяти процентов мирного населения, однако до поры до времени наш герой об этом обстоятельстве не имел ни малейшего представления. Но такой случай представился. Однажды, после скоротечного боя в горах и выматывающего марш-броска, их отделение остановилось в маленьком кишлаке, жители которого весьма миролюбиво встретили нежданных гостей. Бойцы, укрывшись от палящего солнца под навесом, приводили в порядок оружие. То ли усталость сморила одного молодого солдата, то ли это было роковой оплошностью, но во время чистки автомата он, выстрелом в упор, случайно убил своего товарища. Парня и его командира ожидало суровое наказание на родине. Командир ушел к радисту, как подумал Геннадий – сообщить о случившемся на базу. Затем отделение поспешно вышло из кишлака в горы, а через некоторое время авиация сравняла деревню с землей, в сообщении же командира значилось, что разведчики подверглись нападению душманов, в результате которого был убит один военнослужащий.
Возможно, именно этот «боевой» эпизод повлиял на решение Геннадия сменить воинскую специальность разведчика на специальность сапера, но это случилось уже после ранения и госпиталя. Когда он вновь вернулся в строй, то стал сапером. Войны заканчивались, начинались новые, Геннадий кочевал с одного, так называемого, «театра военных действий» на другой, совершенствуя свое мастерство. Игры с притаившейся в земле смертью настолько его захватили, что, когда настал такой момент, и медкомиссия полностью забраковала Геннадия в связи с последствиями ранения, он просто не находил себе места от отчаянья. Не хочется выдумывать, чем жил Геннадий на гражданке и какие способы добычи пропитания испробовал. Бог упас парня от работы на бандитов, но страсть к рисковым предприятиям привела его вновь к поисковикам: в составе одного военно-исторического клуба он взялся без устали разыскивать взрывоопастные предметы, оставленные на полях сражения Второй Мировой. Такому мастеру саперного дела казалось скучным простое извлечение из земли старых боеприпасов, для остроты ощущений Геннадий начал разбирать смертоносные находки и удалять взрыватели, что, конечно, никто из здравомыслящих членов клуба ему позволить не мог – проржавевшие трофеи иногда вели себя непредсказуемо. Пришлось Геннадию оставить официальную организацию и продолжать свое поисковое занятие в одиночку. Дважды он был пойман, попадал под облавы, проводимые милицией с целью отлова «черных следопытов». Привык Геннадий правду говорить, но ему не верили. Тогда пришлось показать омоновцам пару-тройку шуток с взрывчаткой, которые заставили милиционеров в ужасе разбежаться.
Однажды его все-таки задержали и стали допрашивать. Крупно повезло парню, что допрос вел следователь, который сам недавно побывал на войне. Вскоре протокол был отложен в сторону, а допрос перешел в задушевную беседу. В конце разговора следователь сказал: «Вот что, Гена. Ты здесь пропадешь. Либо подорвешься на «ржавчине», либо тебя все-таки посадят. Знаешь, как бы я поступил на твоем месте? Или хотя бы попробовал. Вот, например, попытался бы выехать в какую-нибудь страну, где недавно бои шли. Как частное лицо предложил бы свои услуги местным властям по разминированию». Отвечает ему Геннадий: «На что же я там жить буду? Вряд ли частному-то лицу кто-нибудь платить будет». Следователь задумался, а потом и говорит: «Ну, во-первых, будет день, и будет пища, как говорится. Хотя бы местные жители тебя прокормят. А вот еще что мне в голову пришло. Ты, когда был сапером, не припомнишь ли какой случай, чтобы посторонние предметы ценными древностями оказались?» Вспылил, было, немного Геннадий: «Подумай сам, до того ли мне было? Хотя постой. Однажды извлек какую-то старину, командиру своему подарил. И еще двое ребят молодых хвастали о своих находках. Только они им не пригодились. Слишком уж отвлекались по пустякам во время работы. На том участке, помнится, много пластиковых мин попадалось, там основную работу собаки, а не металлодетекторы, выполняли». Говорит следователь: «Ну, там, куда я тебе ехать советую, под пулями работать не надо. И гнать тебя тоже никто не будет. Хотя наверняка я сам не знаю. На войне я по другой части служил».
Вышел Геннадий из милиции в задумчивости, а полгода спустя, сапер уже объяснялся на плохом английском языке с толстым чиновником одной из южных стран, пережившей страшную братоубийственную войну. Чиновник очень удивился, когда Геннадий согласился на мизерную оплату своих услуг по разминированию.
Прибыл к месту назначения, нигде не задерживаясь. Уголок бедной провинции встретил его палящим солнцем. Все дороги, тропинки, поля были нашпигованы смертоносными зарядами. Подцепив первую мину на новом месте, Геннадий только улыбнулся ей, как старой знакомой. Мина оказалась старого образца, в железном, а не в пластиковом, корпусе. Работа шла своим чередом. Сапер втянулся в работу и привык к местным условиям, чувствуя себя, так сказать, вновь на коне. Все боеприпасы на минных полях оказались хорошо определимы металлоискателями. Разговор со следователем про находки старинные как-то позабылся, но случай помог вспомнить.
Как-то раз его миноискатель засек предмет, который оказался закопанным глубже уровня минирования. Шутки ради, он вскрыл землю и, к своему изумлению, извлек из нее позеленевшую от времени древнюю статуэтку. При этом новое, доселе неведомое, чувство ликования наполнило его душу. «Как же так? Вроде бы опасности тут нет. А переживания, словно я подвиг совершил или еще чего такое сделал? Сильная штука». Полюбовался находкой, почистил слегка рукавом и, поразмыслив маленько, придумал, как дальше быть.
Спустившись со своей «горной разработки» в поселок, он разыскал человека, у которого был фотоаппарат моментальной съемки. Все жители преклонялись перед бесстрашным сапером, который уже расчистил не один гектар сельхозугодий и дорог. Поэтому хозяин фотоаппарата безоговорочно вручил Геннадию свое единственное сокровище. Сапер вернулся к своей находке. В горах она была в полной безопасности – ни один селянин не осмелился бы зайти за предупредительное ограждение.
Сделав несколько снимков статуэтки, Геннадий отправился с ними в столицу, где долго разыскивал в кабинетах нужного человека. Когда все-таки отыскал такого человека и показал ему снимки, тот, забыв о приличиях и традиционной сдержанности, выхватил фотографии из рук сапера. «Где вы это нашли? Искали рядом? Что вы за это хотите?» – бубнил чиновник в крайнем возбуждении. Наконец, он сумел взять себя в руки и стал объяснять ценность такой находки. Геннадий не очень хорошо понял специфические термины на английском языке, но картина вырисовывалась интересная. Возможно, это лишь первая находка в серии очень важных для страны археологических открытий. Чиновник посчитал, что сапер нашел неведомую караванную тропу через горы, которая пролегала тысячелетия тому назад. Ученый чиновник принес карту и попросил показать приблизительно место находки. Когда Геннадий уверенно ткнул пальцем в желто-коричневые разводья участка предгорий, чиновник побледнел: «Там же сплошные минные поля!» «Вот я их и ликвидирую». Чиновник глубоко задумался, прикусив губу, затем сказал: «Я, конечно, вас хорошо понимаю. Вы герой, спасающий наш народ. Но герою тоже нужно жить, заводить семью, иметь хороший дом. Давайте сделаем так. Вы будете продолжать свою работу. Посторонние исторические находки будут оставаться пока у вас, а я буду вести переговоры со своим правительством, чтобы, соблюдая все законы, пытаться учесть и ваш материальный интерес. Где вас можно разыскать?» Геннадий назвал поселок, где базировался, распрощался с чиновником и отправился к себе на «плантацию».
Пережитая радость от находки вынудила немного снизить темп разминирования округи. Но Геннадий, как опытный воин, конечно, не забывал о предосторожностях и хорошенько проверил всю территорию возле своей находки. Теперь, когда все найденные мины были обезврежены, он приступил к более детальному обследованию местности, обращая внимание даже на самые слабые сигналы. Военная и хозяйственная деятельность, конечно, нанесли отпечаток на характер его находок. Кучка современного хлама, собранная на небольшой глубине, росла. Но вот, наконец, он приступил к выкапыванию глубоких предметов. Его добычей стал бронзовый боевой топор и десяток наконечников от стрел.
Положение наконечников в земле явно показывало, что стреляли с трех сторон в одну и ту же мишень. У Геннадия сложилось впечатление, что картина боя, происшедшего на этом месте, была следующей. Группа лучников кого-то преследовала, поднимаясь из долины. Беглец принял бой, прячась за группой камней, прикрывавших вход в ущелье. Высота камней позволяла предположить, что у беглеца могла быть лошадь, оставленная в безопасном месте. «Вон там, например», – подумал Геннадий, заметив возле высокого камня острый выступ, который вполне мог служить для привязи коня. Вскоре сапер нашел подтверждение своей догадки – потерянная подкова и несколько крупных позеленевших монет. «Значит, так. Беглец обстрелял преследователей, заставив их спешиться, а затем, припрятав лишние вещи, потихоньку увел коня до поворота ущелья. Прикрываясь этими камнями, повернул за угол и опять пустился вскачь». Поразмыслив еще немного, он поискал за камнями удобную позицию для стрельбы и, посмотрев со своей позиции в сторону долины, раскинувшейся внизу, определил место, где стрелы могли настичь всадников, и направился в ту сторону. Его металлоискатель вскоре обнаружил под каменной осыпью древний шлем, свалившийся с головы убитого или раненого воина. Геннадий присел и расстелил на колене карту. Ущелье заканчивалось тупиком, протяженность его была не больше пятнадцати километров. «А если учесть, что конь без подковы в горах быстро захромает, то, может быть, все ущелье мне обыскивать не придется для разгадки этой тайны», – подумал Геннадий и стал с работой подниматься в горы, порой действуя больше, как сапер, чем как кладоискатель.
Чем дальше в горы он поднимался, тем реже попадались следы войны. Особенно после того места, где на очередном повороте ущелья всюду были видны следы недавней жаркой схватки с использованием стрелкового оружия. За несколько дней поисков в ущелье он больше ничего интересного не нашел. Отвесная скала, преградившая путь, делала ущелье непригодным для караванных троп.
Вечерами у себя в комнате Геннадий часто размышлял о судьбе всадника, а порою засыпал с этими мыслями. Иногда события прошлого проникали в его сны. Когда это случалось, он видел неравный бой одного против пятерых или шестерых человек. Во сне получалось, что исход боя был различен. Иногда побеждал одинокий всадник, иногда его враги. Однажды ему даже приснилось, что он сам скачет по горячим камням под свист стрел.
Как-то раз, когда он собирался выходить на работу, то увидел на дороге в клубах пыли приближающийся автомобиль. Это приехал знакомый правительственный чиновник, которому Геннадий показывал фотографии. Поздоровавшись с гостем, Геннадий доложил о своих небогатых находках. Чиновник во время разговора кивал головой, а затем сказал: «Знаете, мы провели архивный поиск по этой округе. Ваша находка была совершенно случайной. По материалам, проведенным в довоенные годы здесь серьезной археологической разведкой, британские ученые убедительно доказали, что в этом районе нет, и не может быть никаких ценностей, никаких реликвий. Местность практически была не заселена по различным географическим и историческим причинам. Теперь о вашей находке. Денег на вознаграждение правительство не смогло выделить. Но я сумел выхлопотать бумагу, по которой все найденное вами впредь в этом районе вы сможете беспрепятственно вывезти за границу государства. Но это, конечно, может произойти лишь в обмен на статуэтку». «Предложение интересное. А что мне помешает, например, начать тайные раскопки в более перспективных местах и в то же время воспользоваться документом на свободный вывоз?» Чиновник неожиданно рассмеялся: «В традиции нашего народа есть парадоксальные черты характера – простодушие и подозрительность одновременно. Чтобы следить за вами, даже не нужно привлекать официальных лиц. Любые ваши передвижения известны не только поселку, но и в городе, и даже у нас в министерстве». «А как обстоят дела с такой чертой вашего национального характера, как твердость данного обещания?» – спрашивает Геннадий. «Не извольте беспокоиться. Ваш труд и так незаслуженно низко оплачивается. Поэтому я и мое правительство только порадуемся, если найдется что-то для вас ценное, но выпадающее из общей исторической концепции, принятой нашей идеологией. Увы! Политика в иные моменты развития общества важнее исторической правды. Надеюсь, вы поняли меня правильно и согласитесь с моим предложением». Геннадий согласился и повел чиновника, опасливо переступающего по недавно разминированной тропе, к месту находки статуэтки. Там же и состоялся обмен ценностями. Чиновник получил реликвию, а сапер – правительственную бумагу, где была записана лишь одна фраза: «Разрешено к вывозу личной собственности» и подпись самого высочайшего начальства.
После отъезда чиновника Геннадий занялся своим привычным делом – разминированием полей и дорог, затем тщательно обследовал каждый расчищенный участок. Количество интересных находок постепенно росло. Иногда он даже прикидывал, что смог бы получить на родине за найденные реликвии. Вот уже и близился тот день, когда работа в этом районе должна быть завершена. Выданная Геннадию бумага и условия, оговоренные с ним, практически запрещали ему вести саперные работы в других районах. В противном случае пришлось бы расстаться со своей, уже полюбившейся ему, коллекцией. Напоследок Геннадий решил еще раз навестить знакомое ущелье.
Поднимаясь по каменистому дну высохшего ручья, он достиг места боя недавней войны. И тут его осенило. Ведь обследовав все ущелье, он здесь лишь убрал несколько взрывоопасных предметов, не собрав сотни разбросанных по камням гильз. Возможно, металлический фон гильз и скрывает разгадку тайны? Геннадий начал собирать все следы войны в кучу. В одном месте под каменным обвалом обнаружился отчетливый сигнал. Когда он растащил глыбы, то обнаружил под ними мумифицированный в сухом горном воздухе трупп убитого несколько лет назад солдата. Причиной сигнала металлоискателя послужил патронташ на поясе воина.
Оставлять мертвеца непогребенным Геннадий посчитал недостойным для себя. Поэтому он оглянулся вокруг, подыскивая место, где бы можно было вырыть могилу. Отложив в сторону металлоискатель, Геннадий начал рыть в единственно возможном для рытья месте, в небольшом песчаном холмике на самом повороте ущелья. Углубившись уже больше метра в песок, его лопата вместе с очередной порцией грунта выбросила из ямы какой-то крупный ком глины, который, ударившись о землю, рассыпался вдруг десятками кроваво-красных брызг. На какой-то миг Геннадия охватил мистический ужас: «Следы тысячелетней трагедии в угрюмом ущелье, скорчившаяся мумия мертвеца и глина, превратившаяся в кровавые брызги!» Но это был лишь миг. Дальше в голове промелькнул единственно возможный ответ – рубины. Геннадий с поразительным спокойствием для такого случая собрал драгоценные камни в кучку и, присев на край вырытой могилы, глубоко задумался.
Думал он о себе, о жизни и о смерти, его взгляд блуждал, переходя с мертвеца, на рубины, лежащие под ногами, на высокое синее небо. Ему вдруг показалось, что в эти минуты где-то глубоко-глубоко внутри, может быть, в самом сердце лопается какой-то давно назревавший гнойник, давивший на душу с того момента, как он взял в руки оружие. Соприкосновение с древней трагедией – иначе объяснить появление закопанных здесь рубинов было невозможно, вид останков современного воина – все это каким-то образом вылечило его, Геннадия, от подсознательной тяги к сокращению своего жизненного пути. Красные камни напомнили о жизни, сверкающей в царстве мертвых, слугой которого он был все предыдущие годы. Случилась как раз та парадоксальная реакция, когда проявление бренности человеческих устремлений пробудило жажду жизни.
Геннадий встал, аккуратно сложил в карман самоцветы, положил останки воина в яму. Затем, помедлив секунду, бросил в могилу свой включенный миноискатель, который еще долго жалобно пищал из-под слоя свеженасыпанной земли.
Несмотря на стилистическую шероховатость повествования, автору, на мой взгляд, удалось передать философский подтекст рассказа. Возможно г-на Копалкина, никогда не принимавшего участия в боевых действиях, обвинят в незнании психологии воина-ветерана, но у меня сложилось впечатление, что материалы автор брал не из газетных публикаций, а из повествований реальных участников событий. Совершенно неубедительно выглядят взаимоотношения героя рассказа с чиновниками «далекой южной страны», но жанр «сказительства» такие фантазии допускает.
Рассказ - Сапёр
Придется начинать сказку с избитой-преизбитой фразы «жизнь полна противоречий», потому что тема сказки может оказаться слишком болезненной для многих людей, прошедших через суровые испытания огнем войны. Как-то я прочитал в одной популярной книге рассказ психолога о совершенно непонятном поведении бывшего заключенного «лагеря смерти», который, спустя двадцать лет, очутившись в составе туристической группы, на месте своего лагерного барака совершил якобы необъяснимый поступок. Представьте, как вполне респектабельный турист с солидным брюшком, зарыдав, вдруг воскликнул: «Господи! Только здесь я был по-настоящему счастлив!» Видевшие эту сцену люди посчитали, что человек просто-напросто сошел с ума. Только психолог все объяснил: «Здесь прошли молодые годы узника. Здесь он переживал всю остроту борьбы со смертью».
Жил да был один парень. Звали его Геннадием. Когда-то давно по идейным соображениям он пошел на войну. Геннадию везло: воевал, как и положено романтическому герою, только с вооруженными врагами, «вражьих голосов» не слушал и свято верил, что защищает дальние подступы к рубежам своей родины. Статистика утверждает, что жертвами современных войн становится более семидесяти процентов мирного населения, однако до поры до времени наш герой об этом обстоятельстве не имел ни малейшего представления. Но такой случай представился. Однажды, после скоротечного боя в горах и выматывающего марш-броска, их отделение остановилось в маленьком кишлаке, жители которого весьма миролюбиво встретили нежданных гостей. Бойцы, укрывшись от палящего солнца под навесом, приводили в порядок оружие. То ли усталость сморила одного молодого солдата, то ли это было роковой оплошностью, но во время чистки автомата он, выстрелом в упор, случайно убил своего товарища. Парня и его командира ожидало суровое наказание на родине. Командир ушел к радисту, как подумал Геннадий – сообщить о случившемся на базу. Затем отделение поспешно вышло из кишлака в горы, а через некоторое время авиация сравняла деревню с землей, в сообщении же командира значилось, что разведчики подверглись нападению душманов, в результате которого был убит один военнослужащий.
Возможно, именно этот «боевой» эпизод повлиял на решение Геннадия сменить воинскую специальность разведчика на специальность сапера, но это случилось уже после ранения и госпиталя. Когда он вновь вернулся в строй, то стал сапером. Войны заканчивались, начинались новые, Геннадий кочевал с одного, так называемого, «театра военных действий» на другой, совершенствуя свое мастерство. Игры с притаившейся в земле смертью настолько его захватили, что, когда настал такой момент, и медкомиссия полностью забраковала Геннадия в связи с последствиями ранения, он просто не находил себе места от отчаянья. Не хочется выдумывать, чем жил Геннадий на гражданке и какие способы добычи пропитания испробовал. Бог упас парня от работы на бандитов, но страсть к рисковым предприятиям привела его вновь к поисковикам: в составе одного военно-исторического клуба он взялся без устали разыскивать взрывоопастные предметы, оставленные на полях сражения Второй Мировой. Такому мастеру саперного дела казалось скучным простое извлечение из земли старых боеприпасов, для остроты ощущений Геннадий начал разбирать смертоносные находки и удалять взрыватели, что, конечно, никто из здравомыслящих членов клуба ему позволить не мог – проржавевшие трофеи иногда вели себя непредсказуемо. Пришлось Геннадию оставить официальную организацию и продолжать свое поисковое занятие в одиночку. Дважды он был пойман, попадал под облавы, проводимые милицией с целью отлова «черных следопытов». Привык Геннадий правду говорить, но ему не верили. Тогда пришлось показать омоновцам пару-тройку шуток с взрывчаткой, которые заставили милиционеров в ужасе разбежаться.
Однажды его все-таки задержали и стали допрашивать. Крупно повезло парню, что допрос вел следователь, который сам недавно побывал на войне. Вскоре протокол был отложен в сторону, а допрос перешел в задушевную беседу. В конце разговора следователь сказал: «Вот что, Гена. Ты здесь пропадешь. Либо подорвешься на «ржавчине», либо тебя все-таки посадят. Знаешь, как бы я поступил на твоем месте? Или хотя бы попробовал. Вот, например, попытался бы выехать в какую-нибудь страну, где недавно бои шли. Как частное лицо предложил бы свои услуги местным властям по разминированию». Отвечает ему Геннадий: «На что же я там жить буду? Вряд ли частному-то лицу кто-нибудь платить будет». Следователь задумался, а потом и говорит: «Ну, во-первых, будет день, и будет пища, как говорится. Хотя бы местные жители тебя прокормят. А вот еще что мне в голову пришло. Ты, когда был сапером, не припомнишь ли какой случай, чтобы посторонние предметы ценными древностями оказались?» Вспылил, было, немного Геннадий: «Подумай сам, до того ли мне было? Хотя постой. Однажды извлек какую-то старину, командиру своему подарил. И еще двое ребят молодых хвастали о своих находках. Только они им не пригодились. Слишком уж отвлекались по пустякам во время работы. На том участке, помнится, много пластиковых мин попадалось, там основную работу собаки, а не металлодетекторы, выполняли». Говорит следователь: «Ну, там, куда я тебе ехать советую, под пулями работать не надо. И гнать тебя тоже никто не будет. Хотя наверняка я сам не знаю. На войне я по другой части служил».
Вышел Геннадий из милиции в задумчивости, а полгода спустя, сапер уже объяснялся на плохом английском языке с толстым чиновником одной из южных стран, пережившей страшную братоубийственную войну. Чиновник очень удивился, когда Геннадий согласился на мизерную оплату своих услуг по разминированию.
Прибыл к месту назначения, нигде не задерживаясь. Уголок бедной провинции встретил его палящим солнцем. Все дороги, тропинки, поля были нашпигованы смертоносными зарядами. Подцепив первую мину на новом месте, Геннадий только улыбнулся ей, как старой знакомой. Мина оказалась старого образца, в железном, а не в пластиковом, корпусе. Работа шла своим чередом. Сапер втянулся в работу и привык к местным условиям, чувствуя себя, так сказать, вновь на коне. Все боеприпасы на минных полях оказались хорошо определимы металлоискателями. Разговор со следователем про находки старинные как-то позабылся, но случай помог вспомнить.
Как-то раз его миноискатель засек предмет, который оказался закопанным глубже уровня минирования. Шутки ради, он вскрыл землю и, к своему изумлению, извлек из нее позеленевшую от времени древнюю статуэтку. При этом новое, доселе неведомое, чувство ликования наполнило его душу. «Как же так? Вроде бы опасности тут нет. А переживания, словно я подвиг совершил или еще чего такое сделал? Сильная штука». Полюбовался находкой, почистил слегка рукавом и, поразмыслив маленько, придумал, как дальше быть.
Спустившись со своей «горной разработки» в поселок, он разыскал человека, у которого был фотоаппарат моментальной съемки. Все жители преклонялись перед бесстрашным сапером, который уже расчистил не один гектар сельхозугодий и дорог. Поэтому хозяин фотоаппарата безоговорочно вручил Геннадию свое единственное сокровище. Сапер вернулся к своей находке. В горах она была в полной безопасности – ни один селянин не осмелился бы зайти за предупредительное ограждение.
Сделав несколько снимков статуэтки, Геннадий отправился с ними в столицу, где долго разыскивал в кабинетах нужного человека. Когда все-таки отыскал такого человека и показал ему снимки, тот, забыв о приличиях и традиционной сдержанности, выхватил фотографии из рук сапера. «Где вы это нашли? Искали рядом? Что вы за это хотите?» – бубнил чиновник в крайнем возбуждении. Наконец, он сумел взять себя в руки и стал объяснять ценность такой находки. Геннадий не очень хорошо понял специфические термины на английском языке, но картина вырисовывалась интересная. Возможно, это лишь первая находка в серии очень важных для страны археологических открытий. Чиновник посчитал, что сапер нашел неведомую караванную тропу через горы, которая пролегала тысячелетия тому назад. Ученый чиновник принес карту и попросил показать приблизительно место находки. Когда Геннадий уверенно ткнул пальцем в желто-коричневые разводья участка предгорий, чиновник побледнел: «Там же сплошные минные поля!» «Вот я их и ликвидирую». Чиновник глубоко задумался, прикусив губу, затем сказал: «Я, конечно, вас хорошо понимаю. Вы герой, спасающий наш народ. Но герою тоже нужно жить, заводить семью, иметь хороший дом. Давайте сделаем так. Вы будете продолжать свою работу. Посторонние исторические находки будут оставаться пока у вас, а я буду вести переговоры со своим правительством, чтобы, соблюдая все законы, пытаться учесть и ваш материальный интерес. Где вас можно разыскать?» Геннадий назвал поселок, где базировался, распрощался с чиновником и отправился к себе на «плантацию».
Пережитая радость от находки вынудила немного снизить темп разминирования округи. Но Геннадий, как опытный воин, конечно, не забывал о предосторожностях и хорошенько проверил всю территорию возле своей находки. Теперь, когда все найденные мины были обезврежены, он приступил к более детальному обследованию местности, обращая внимание даже на самые слабые сигналы. Военная и хозяйственная деятельность, конечно, нанесли отпечаток на характер его находок. Кучка современного хлама, собранная на небольшой глубине, росла. Но вот, наконец, он приступил к выкапыванию глубоких предметов. Его добычей стал бронзовый боевой топор и десяток наконечников от стрел.
Положение наконечников в земле явно показывало, что стреляли с трех сторон в одну и ту же мишень. У Геннадия сложилось впечатление, что картина боя, происшедшего на этом месте, была следующей. Группа лучников кого-то преследовала, поднимаясь из долины. Беглец принял бой, прячась за группой камней, прикрывавших вход в ущелье. Высота камней позволяла предположить, что у беглеца могла быть лошадь, оставленная в безопасном месте. «Вон там, например», – подумал Геннадий, заметив возле высокого камня острый выступ, который вполне мог служить для привязи коня. Вскоре сапер нашел подтверждение своей догадки – потерянная подкова и несколько крупных позеленевших монет. «Значит, так. Беглец обстрелял преследователей, заставив их спешиться, а затем, припрятав лишние вещи, потихоньку увел коня до поворота ущелья. Прикрываясь этими камнями, повернул за угол и опять пустился вскачь». Поразмыслив еще немного, он поискал за камнями удобную позицию для стрельбы и, посмотрев со своей позиции в сторону долины, раскинувшейся внизу, определил место, где стрелы могли настичь всадников, и направился в ту сторону. Его металлоискатель вскоре обнаружил под каменной осыпью древний шлем, свалившийся с головы убитого или раненого воина. Геннадий присел и расстелил на колене карту. Ущелье заканчивалось тупиком, протяженность его была не больше пятнадцати километров. «А если учесть, что конь без подковы в горах быстро захромает, то, может быть, все ущелье мне обыскивать не придется для разгадки этой тайны», – подумал Геннадий и стал с работой подниматься в горы, порой действуя больше, как сапер, чем как кладоискатель.
Чем дальше в горы он поднимался, тем реже попадались следы войны. Особенно после того места, где на очередном повороте ущелья всюду были видны следы недавней жаркой схватки с использованием стрелкового оружия. За несколько дней поисков в ущелье он больше ничего интересного не нашел. Отвесная скала, преградившая путь, делала ущелье непригодным для караванных троп.
Вечерами у себя в комнате Геннадий часто размышлял о судьбе всадника, а порою засыпал с этими мыслями. Иногда события прошлого проникали в его сны. Когда это случалось, он видел неравный бой одного против пятерых или шестерых человек. Во сне получалось, что исход боя был различен. Иногда побеждал одинокий всадник, иногда его враги. Однажды ему даже приснилось, что он сам скачет по горячим камням под свист стрел.
Как-то раз, когда он собирался выходить на работу, то увидел на дороге в клубах пыли приближающийся автомобиль. Это приехал знакомый правительственный чиновник, которому Геннадий показывал фотографии. Поздоровавшись с гостем, Геннадий доложил о своих небогатых находках. Чиновник во время разговора кивал головой, а затем сказал: «Знаете, мы провели архивный поиск по этой округе. Ваша находка была совершенно случайной. По материалам, проведенным в довоенные годы здесь серьезной археологической разведкой, британские ученые убедительно доказали, что в этом районе нет, и не может быть никаких ценностей, никаких реликвий. Местность практически была не заселена по различным географическим и историческим причинам. Теперь о вашей находке. Денег на вознаграждение правительство не смогло выделить. Но я сумел выхлопотать бумагу, по которой все найденное вами впредь в этом районе вы сможете беспрепятственно вывезти за границу государства. Но это, конечно, может произойти лишь в обмен на статуэтку». «Предложение интересное. А что мне помешает, например, начать тайные раскопки в более перспективных местах и в то же время воспользоваться документом на свободный вывоз?» Чиновник неожиданно рассмеялся: «В традиции нашего народа есть парадоксальные черты характера – простодушие и подозрительность одновременно. Чтобы следить за вами, даже не нужно привлекать официальных лиц. Любые ваши передвижения известны не только поселку, но и в городе, и даже у нас в министерстве». «А как обстоят дела с такой чертой вашего национального характера, как твердость данного обещания?» – спрашивает Геннадий. «Не извольте беспокоиться. Ваш труд и так незаслуженно низко оплачивается. Поэтому я и мое правительство только порадуемся, если найдется что-то для вас ценное, но выпадающее из общей исторической концепции, принятой нашей идеологией. Увы! Политика в иные моменты развития общества важнее исторической правды. Надеюсь, вы поняли меня правильно и согласитесь с моим предложением». Геннадий согласился и повел чиновника, опасливо переступающего по недавно разминированной тропе, к месту находки статуэтки. Там же и состоялся обмен ценностями. Чиновник получил реликвию, а сапер – правительственную бумагу, где была записана лишь одна фраза: «Разрешено к вывозу личной собственности» и подпись самого высочайшего начальства.
После отъезда чиновника Геннадий занялся своим привычным делом – разминированием полей и дорог, затем тщательно обследовал каждый расчищенный участок. Количество интересных находок постепенно росло. Иногда он даже прикидывал, что смог бы получить на родине за найденные реликвии. Вот уже и близился тот день, когда работа в этом районе должна быть завершена. Выданная Геннадию бумага и условия, оговоренные с ним, практически запрещали ему вести саперные работы в других районах. В противном случае пришлось бы расстаться со своей, уже полюбившейся ему, коллекцией. Напоследок Геннадий решил еще раз навестить знакомое ущелье.
Поднимаясь по каменистому дну высохшего ручья, он достиг места боя недавней войны. И тут его осенило. Ведь обследовав все ущелье, он здесь лишь убрал несколько взрывоопасных предметов, не собрав сотни разбросанных по камням гильз. Возможно, металлический фон гильз и скрывает разгадку тайны? Геннадий начал собирать все следы войны в кучу. В одном месте под каменным обвалом обнаружился отчетливый сигнал. Когда он растащил глыбы, то обнаружил под ними мумифицированный в сухом горном воздухе трупп убитого несколько лет назад солдата. Причиной сигнала металлоискателя послужил патронташ на поясе воина.
Оставлять мертвеца непогребенным Геннадий посчитал недостойным для себя. Поэтому он оглянулся вокруг, подыскивая место, где бы можно было вырыть могилу. Отложив в сторону металлоискатель, Геннадий начал рыть в единственно возможном для рытья месте, в небольшом песчаном холмике на самом повороте ущелья. Углубившись уже больше метра в песок, его лопата вместе с очередной порцией грунта выбросила из ямы какой-то крупный ком глины, который, ударившись о землю, рассыпался вдруг десятками кроваво-красных брызг. На какой-то миг Геннадия охватил мистический ужас: «Следы тысячелетней трагедии в угрюмом ущелье, скорчившаяся мумия мертвеца и глина, превратившаяся в кровавые брызги!» Но это был лишь миг. Дальше в голове промелькнул единственно возможный ответ – рубины. Геннадий с поразительным спокойствием для такого случая собрал драгоценные камни в кучку и, присев на край вырытой могилы, глубоко задумался.
Думал он о себе, о жизни и о смерти, его взгляд блуждал, переходя с мертвеца, на рубины, лежащие под ногами, на высокое синее небо. Ему вдруг показалось, что в эти минуты где-то глубоко-глубоко внутри, может быть, в самом сердце лопается какой-то давно назревавший гнойник, давивший на душу с того момента, как он взял в руки оружие. Соприкосновение с древней трагедией – иначе объяснить появление закопанных здесь рубинов было невозможно, вид останков современного воина – все это каким-то образом вылечило его, Геннадия, от подсознательной тяги к сокращению своего жизненного пути. Красные камни напомнили о жизни, сверкающей в царстве мертвых, слугой которого он был все предыдущие годы. Случилась как раз та парадоксальная реакция, когда проявление бренности человеческих устремлений пробудило жажду жизни.
Геннадий встал, аккуратно сложил в карман самоцветы, положил останки воина в яму. Затем, помедлив секунду, бросил в могилу свой включенный миноискатель, который еще долго жалобно пищал из-под слоя свеженасыпанной земли.
Несмотря на стилистическую шероховатость повествования, автору, на мой взгляд, удалось передать философский подтекст рассказа. Возможно г-на Копалкина, никогда не принимавшего участия в боевых действиях, обвинят в незнании психологии воина-ветерана, но у меня сложилось впечатление, что материалы автор брал не из газетных публикаций, а из повествований реальных участников событий. Совершенно неубедительно выглядят взаимоотношения героя рассказа с чиновниками «далекой южной страны», но жанр «сказительства» такие фантазии допускает.